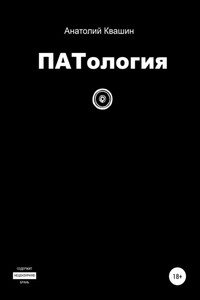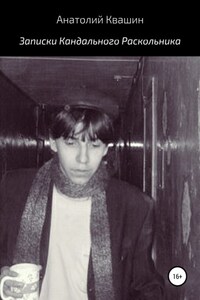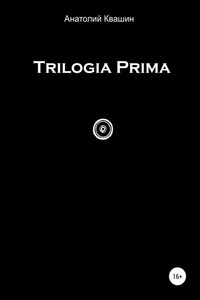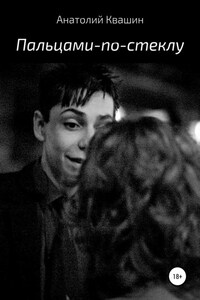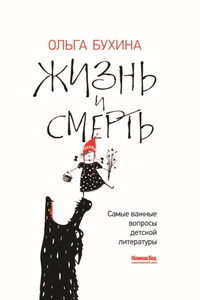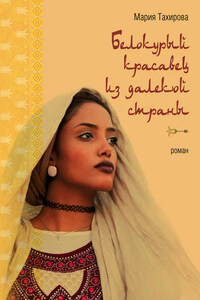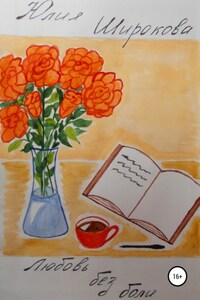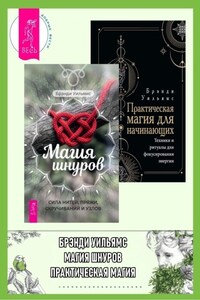Впервые опубликовано: "Трамвай", №10, Июнь 2011 ("… и весь в синих молниях")
Кое-кто, пожалуй, заметит, что вывод тут, несомненно, предшествовал "доказательствам". Но кто же стал бы искать доказательств тому, во что сам не верит и в проповеди чего не заинтересован?
Х.Л. Борхес, «Три версии предательства Иуды»
О романе Ф.М. Достоевского «Идиот» на сегодняшний момент уже написаны тысячи страниц, сказаны миллионы слов – по обе стороны океана – так что и сказать-то больше нечего должно быть. Нам же, живущим после перестройки, несмотря на все эти тысячи и миллионы – результаты многолетней работы советских литературоведов, – нам сомневаться в некоей религиозной основе романа и всего творчества Федора Михайловича в целом уже не приходится. Более того, даже те, кто в годы «застоя» уверенно писал или цитировал о «зубастой капиталистической действительности», сегодня уже не сомневаются в ней. Тем более – о чем еще тут можно говорить? Однако и по сей день ежегодно защищаются десятки работ по творчеству Ф.М. Достоевского. Попробую и я внести свои пять копеек в общую копилку.
Сергей Довлатов отмечал в «Соло на IBM», что «всякая литературная материя делится на три сферы:
То, что автор хотел выразить.
То, что он сумел выразить.
То, что он выразил, сам этого не желая.
Третья сфера – наиболее интересная…». И действительно: чем крупнее и талантливее писатель, тем больше эта «третья сфера» в его творчестве, произведения же Великих от Литературы, – к числу которых бесспорно принадлежит и Федор Михайлович, – и вовсе бездонны. Именно поэтому каждое новое поколение читателей и исследователей находит в них что-то свое, что-то новое. Даже если в них этого и нет. Но только если простой читатель воспринял нечто и понес дальше это нечто как составную часть своего багажа, то исследователю нужно остановиться, обнюхать это нечто, осмотреть со всех сторон и – самое главное – суметь доказать, что это нечто именно такое, каким он его увидел, обнюхал и понял. И вот тогда идут в ход черновики, письма, дневники, воспоминания и прочие косвенные доказательства, которые и трактуются-то не всегда адекватно. Подобные – что называется, «притянутые за уши» – доказательства часто срабатывают с точностью до наоборот, т.е. скорее опровергают мысль (порой весьма и весьма верную), чем подтверждают ее.
Избегая по возможности скользкого пути «обязательной» доказательности, я, тем не менее, стараюсь идти по – не менее опасному – пути практически-бездоказательной ассоциативности, основываясь на том, что не всякая интертекстуальная связь может быть зафиксирована в черновиках, тем более что литературный процесс может двигаться не только от прошлого к будущему, но и наоборот. Одно из лучших выражений данная точка зрения нашла в эссе Хорхе Луиса Борхеса «Кафка и его предшественники»: «Лексикону историка литературы без слова “предшественник” не обойтись, но пора очистить его от всякого намека на спор или соревнование. Суть в том, что каждый писатель сам создает своих предшественников. Его творчество переворачивает наши представления не только о будущем, но и о прошлом». И дело даже не в выстраивании некоей ретроспективы, вписывающей «предшественника» в традицию «последователя» (хотя уже одно это многого стоит!), дело в понимании факта одновременности, вернее, вневременности литературного1 процесса: не только и не столько «источники» могут «прояснить» смысл более позднего текста, сколько этот «более поздний» может и должен служить неким трафаретом, через который мы смотрим на «источник». Причем таким трафаретом может быть не только текст литературный, но и картина, и фильм, и даже исследовательский текст. Главное здесь – не забывать, что это – всего лишь полупрозрачный трафарет, глядя через который, легче заметить нечто. И не так важно, сознательно или бессознательно это нечто вложено в текст автором. Итак, не сказав ничего нового, попробую перейти все-таки собственно к предмету данной статьи.
Как я уже писал, религиозно-этическая основа «Идиота» неоднократно обсуждалась, описывалась, интерпретировалась исследователями. Однако основное внимание всегда уделяется главному герою романа – князю Мышкину, в образе которого исследователи, основываясь на черновиках и письмах Достоевского, видят некую проекцию Христа – «положительно-прекрасного человека». Рогожина же довольно часто трактуют как противоположность Мышкину, его антагониста, «темное» начало в романе – чуть ли не воплощение «оскала капитализма». (В скобках признаюсь, что подобная интерпретация образа Парфена Семеновича меня всегда печалила и раздражала. «Как, – думал я порой, – как они могут прямо выводить из Рогожина всех этих ставрогиных и верховенских? Ведь прямой-то его наследник – Митенька Карамазов, но не Ставрогин! Митенька, у которого, как и у Рогожина, “две бездны”…» Но, впрочем, я опять отвлекся). Как писал профессор В.Г. Одиноков: «Рогожин, утверждая свое “Я”, возвел Мышкина на “голгофу” … Вместе с тем Рогожин “распял” и себя … Рогожин, убив Настасью Филипповну и сгубив Мышкина, нравственно умер. “Второе пришествие” не состоялось»2, – и далее как раз цитата о «зубастой капиталистической действительности», которую, впрочем, можно и не принимать во внимание, учитывая время, в которое издавалась книга. В более же поздней статье В.Г. Одиноков трактует финал романа совсем по-другому: «Сокрытый смысл убийства Настасьи Филипповны, интерпретированный в плане сознания Рогожина, может быть объяснен как жертва-благодарение и соединение с Богом. Ведь Рогожин в последней сцене с Мышкиным ведет себя не как злодей и отпетый уголовник, а как инициатор сакрального действа, соотносимого с «общим делом», коим и является Божественная Литургия. Потаенное желание Рогожина соединить во взаимном «прощении» и «любви» троих участников «действа», а, кроме того, получить через «безгрешного» Мышкина Божеское благословение и через него же ощутить сошествие Небесной благодати, имитирует парадоксальным образом пафос Литургической службы в Храме. Достоевский … учитывал … то обстоятельство, что Храмовое служение Богу отличается от возможных земных форм, которые может «учинить» человек, в перспективе только становящийся, как Рогожин, на путь истины и веры»3. Таким образом, Рогожин, ранее находящийся во «тьме языческой», встает на путь от «оглашенного» к «верному» и не только не погибает нравственно, но и обретает надежду на спасение. Разумеется, я не ставлю своей целью поймать Виктора Георгиевича на каких-то противоречиях (тем более что я глубоко его уважаю как одного из тех немногочисленных людей, которые смогли меня хоть чему-то научить): настаивать на постоянстве мнения на протяжении двадцати лет (да еще каких лет: смена строя, смена запретных тем etc.), тем более касательно настолько тонкого вопроса – по крайней мере, глупо. Но, во-первых, работы Виктора Георгиевича – практически единственный знакомый мне материал по данному вопросу (см. предуведомление), а во-вторых, обе приведенные цитаты необходимы мне как некие «опорные точки», от которых я буду отталкиваться в дальнейших рассуждениях.