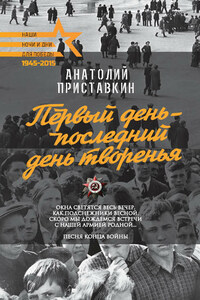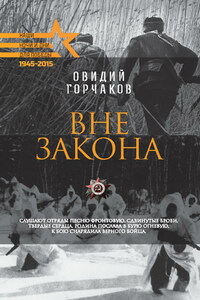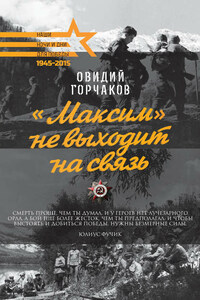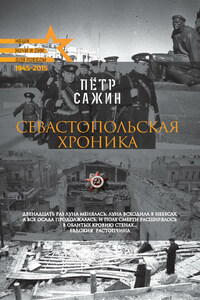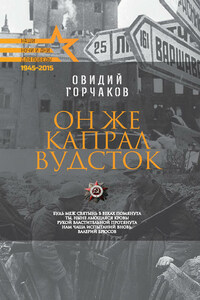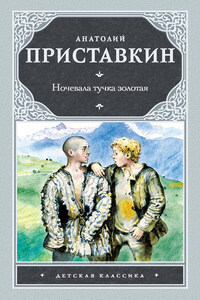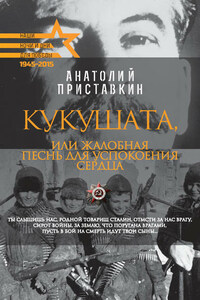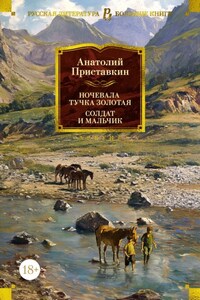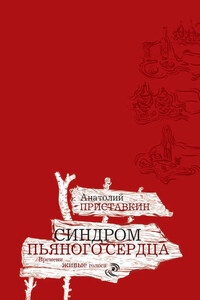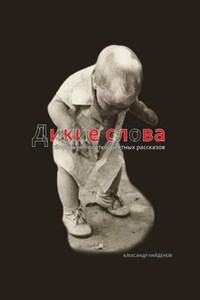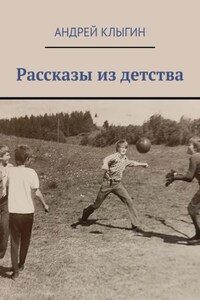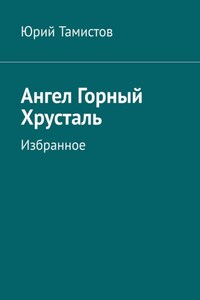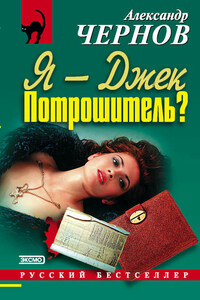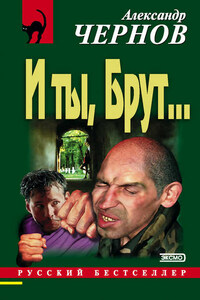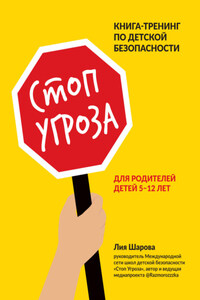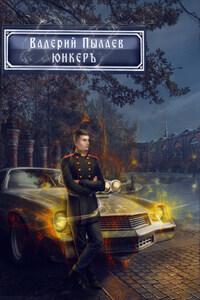У Гвоздевых на громоздком столе чуть ли не от самых дверей возвышался сверкающий снежной белизной чудо-дворец. Плоскость стола была на уровне моих глаз, так что белый дворец, который все называли «пасхой», как бы парил для меня над столом, узорчатый, с широким круглым основанием и башенками поверху, будто сотворенный из сладких облаков. Сладких, потому что нам отвалили по большому куску, и оно проскочило. Растаяло во рту, как то самое облако. Ничего подобного я раньше не пробовал и никогда не попробую, потому что облако-дворец возникает из детского далека, а в детстве все по-другому: и «пасха», и чудеса, и остальное.
Много позже на чьем-то чужом чердаке я увидел резные, темные от времени дощечки, связанные у основания продетым через дырочки кожаным ремешком, и долго не мог сообразить, что это, пока не вспомнил свою первую в жизни Пасху. Наверное, и у Гвоздевых, которые были, насколько я понимаю, глубоко верующими, хоть об этом вслух не говорилось – опасно, сохранялись главные обряды, а уж приход Пасхи был столь заметен, что и мы, при нашем безбожьем воспитании, не могли не принять участия.
А там было и другое чудо – крашенные горкой на столе яички, но они замечались потом, после чудо-дворца. Яички, впрочем, красили и у нас в семье: мама варила их в отваре из луковой шелухи, а еще мы раскрашивали сами, макая кисточку в акварельные краски из моего школьного набора. Яички у Гвоздевых были свои, а мы покупали у соседей. Но вот такого белоснежно сладкого с изюмом узорчатого дворца я не видел ни у кого, и, когда в какие-то годы мне показали освященный круглый кулич и назвали «пасхой», я удивился и не поверил, потому что моя «пасха» из детства была совсем другой.
У Гвоздевых и куличи были самые вкусные, с пряной желтизной, с округлой коричневой корочкой, сдобные, легкие, – сами пекли. А уж из чего печь, для них не проблема: в городе три магазина, и самый крупный, «Угловой», так он в народе прозывался, на углу Октябрьского проспекта и Смирновской, был для Гвоздева Ивана Ивановича своим, он там работал бухгалтером.
У Гвоздевых и свой двор при доме, огород, и вполне допускаю, что ко времени той первой в моей жизни Пасхи могла быть еще и своя скотина. Во всяком случае, закрытый двор для этой скотины у них точно был. И с улицы через щели можно было разглядеть конуру для собаки, свиней и кур.
Для нашей семьи Пасха – это крестящаяся мама, сперва на люберецкую церковь, куда я заходил с опаской и нежеланием, а потом на ее развалины, да вечерняя пьянка с песнями. Но до сих пор помню глаза мамы, когда она смотрела на развалины церкви: я, наверное, не смогу их описать, но они были напряженно-испуганными, как у человека, который не может понять, отчего рушат храмы, куда можно ходить молиться.
В доме мама уже другая, домашняя, все время у керосинки на кухне, у стола: подать, принести, постирать, помыть и так далее. Поэтому ее, а значит, и моя Пасха состояла в посещении старушки в Панках, которая жила в темной избе одна.
«Христос воскресе, воистину воскресе», и подарочек в белом узелочке и долгий чай за самоваром, где сахарница с мелко наколотыми кусочками сахара и, особенно, сверкающие щипчики для них поставлены так, чтобы я не мог достать, но однажды достал и тут же прищемил себе палец.
А в школе в этот день громогласные коллективные стихи: «Что такое Пасха – это просто сказка… А что такое Троица – в три ряда построиться…» И тому подобное.
Сочинители – какие-нибудь комсомольские активисты.
А вот у Гвоздевых Пасха – это праздник, торжество. Все принаряжены и с утра принимают гостей и поздравляют друг друга, целуются и нас, нас тоже поздравляют, когда мы оказываемся рядом.
Но все-таки оно, торжество, там, внутри их семейства, а не снаружи. Это у нас: выпивка, и все за окном слышат, да и в доме тоже слышат, он же старый, деревянный. А у Гвоздевых свой этаж, и если я несколько раз туда попадал по случаю, то еще больше удивлялся, что они по-другому живут, и они, вообще, если сравнивать с моим семейством, другие. А значит, у них и праздники другие, и Пасха тоже.
Не знаю уж, каким образом я оказался в этой огромной, главной в их доме комнате-зале, но, когда вошел, я сразу увидел парящий над столом белоснежный дворец… И так отпечаталось в душе. Образ «пасхи» как образ неземного и прекрасного. А теперь, полагаю, это был, наверное, и образ начала жизни. То т самый первый день творенья.
А уж потом все остальное. Семья, улица, городок… И как финал – война.
А началась война совсем не страшно: взрослые слушали радио и передавали шепотком всяческие слухи, а мы кричали «ура!». А популярную тогда песню «Если завтра война», ее исполнял громоподобно ансамбль Красной Армии под управлением Александрова, переиначивали на свой манер:
Если завтра война,
Слепим пушки из говна
И пойдем на фашистов войною,
Всех фашистов перебьем,
В жопу пороха набьем,
Тра-та-та, тра-та-та…
Мы орали изо всех сил, так что слышно было на соседней улице, но взрослым это нравилось, нас не одергивали, не наказывали. Знали мы и другие боевые песни, на слова, скажем, Рудермана, про тачанку-ростовчанку, которая наша гордость и краса… Или вот из популярного тогда фильма «Трактористы», где артист Крючков сам играет на баяне и мужественно выводит такие слова: «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны…», а в другом фильме, про сельский урожай, жнут хлеб и – хором:
Ой, вы, кони, стальные вы кони,
Боевые друзья-трактора,
Мы за счастьем поедем вдогонку,
Мы любого отыщем врага…
Мы и эти песни орали на всю вселенскую, и у нас не возникало сомнения, что для счастья, за которым мы все поедем вдогонку, нужно скорей кого-то отыскать и разгромить: шпионов, там, диверсантов, фашистов… Одним словом, ВРАГА.
Боюсь ошибиться, но думаю, что слово «ВРАГ» было чуть ли не из первых вообще слов, услышанных нами, когда мы стали себя осознавать лет с пяти-шести.
От моего рождения до Гражданской войны, при отсчете назад, и было-то с десяток лет. Тогда это казалось целым веком; Гражданская война и битва при Бородино стояли в школьном учебнике почти в одном ряду. А сейчас я прикидываю, удивляясь: совсем, совсем по времени рядышком. И, возможно, поэтому от самых первых лет, вовсе не пяти, а много раньше, в нас внедрялись слова и мелодии послевоенного времени… Пулеметы, тачанки, махновцы, Петлюра, а еще красные и беляки. Ну, разумеется, после «той» войны, после «гражданской», хотя это слово всегда меня смущало, оттого что образ «гражданина» с войной в моем сознании не совмещался: Гражданин был в шляпе и с зонтом, и непонятно было представить, как он при этом воюет.