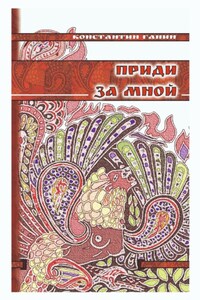Простыня пахнет медом, надо мной склоняется мама, я не могу уснуть от страха и тревоги. Я осознала, что все люди смертны, что даже самые лучшие, самые знаменитые, самые богатые умирают.
Я захлебываюсь от слез.
– Не говори глупости, в то время, когда придется умирать нам с отцом, уже изобретут лекарство от смерти, люди будут жить вечно.
Я успокаиваюсь от ее раздражения, глажу руку, на которой еще нет морщин, ни единой морщинки нет и на моей руке, ее ногти длинные, розовые, она ни разу на моей памяти не пользовалась лаком для ногтей, ее тело мягкое, взгляд грустный, возможно потому, что она знает, что никаких лекарств не существует, что когда-то уже были Богданов и Гастев, мечтавшие о воскрешении, о вакцине от смерти (будто смерть – какой-то страшный вирус). Их полудетские, наивные, до ужаса простые размышления реализовались на практике: «капсула бессмертия» до сих пор лежит на Красной площади в Мавзолее.
Я знаю, что она пыталась меня утешить, я знаю, что невозможно быть готовым к разговору о смерти, особенно если ты пять лет назад родила долгожданную дочь, только что расписалась в собственном бессмертии, бросила живительное семя, которое, вероятно, рано или поздно должно взойти, а если не взойдет – ничего, у тебя есть дополнительное: после долгожданной дочери ты родила долгожданного сына.
Я знаю, что мама часто меня обманывала в утешение, она не хотела причинить мне зло – она жаждала спасти себя от отчаяния, огородив собственную жизнь и жизнь своих детей частоколом правил, окунув с головой в магическое мышление – посмотри в зеркало, а то дороги не будет; давайте посидим перед путешествием, чтобы дорога не путалась; сплюнь, а то сглазишь; Дед Мороз к плохим детям не приходит, приходит к хорошим; у тебя ресничка упала, угадай, в каком глазу; нужно желание загадать, загадывай, все верно, сбудется! Она приглашала подруг, устраивала обеды и ужины в уличной беседке, пекла для этих встреч пироги и носилась с улицы на кухню, с кухни на улицу за солью, перцем, ножом на замену упавшему («Девчонки, а мы какого-то мужчину сегодня ждем?»), тряпкой, чтобы собрать стекло, оставшееся от разбитого бокала: «На счастье, конечно же, на счастье, у нас этого счастья еще много-много с вами будет!» Подруги пели песни, пили вино и водку, после вина и водки плакали («Все к лучшему, все плохое всегда к лучшему») и говорили матери, что она счастливая – двое детей, работящий муж с золотыми руками – все, чего она так давно хотела, намечтала, дождалась.
Папа приезжал из экспедиций – он у меня смешивается с отцами из разных книжек, поэтому я в который раз пытаюсь написать что-нибудь о нем и в который раз эта идея разбивается, как бокал с шампанским в потных, трясущихся руках тети Оли, – не могу представить его настоящим. Сегодня у меня снова не получается уловить его. Опять он улыбчивый, отстраненный, с мешком подарков: вы хорошо себя вели, дети? И опять это не он, снова это Дед Мороз из моего страшного сна, который я увидела после того, как мама сказала, что поздравление Деда Мороза я должна заслужить своим поведением, должна заслужить любовь другого человека, вызвать – сама, трехлетняя – у взрослого, бородатого мужчины желание сделать мне подарок.
Я знаю, почему папа Дед Мороз, – как-то я нашла в его секретере детские книги, увидела и влюбилась, хотела получить и не понимала, почему папа не рассказывает о них нам с братом. Когда папа уезжал на работу, я пробиралась в его кабинет и читала тайные – заманчивые – рассказы, вздрагивая от каждого шороха. Подбегала к окну – выглядывала, нет ли его машины, и снова – на цыпочках – бежала в кабинет. Когда я дочитала все рассказы, наступил канун Нового года. Утром я обнаружила книги под елкой. Подарок от Деда Мороза.
Папа всегда откуда-то приходил, всегда отгораживался – определенным временем, в которое его можно беспокоить, и временем, в которое его беспокоить нельзя (мама говорила, что первое слово, которое я произнесла, было «часы», второе – почему-то – «папа»); рукой, прикрывавшей записи, которые он вел, и названия книг, которые он читал (когда оправилась от его смерти – первым делом прочла все, что он от меня скрывал); словом, словосочетанием, восклицанием, в котором всегда сквозила скрытая насмешка, из-за этого я чувствовала себя маленькой, а его – великим и остроумным. Я опять не уверена, что пишу это об отце: как только произношу – про себя, – как только закрываю глаза, чтобы закрепить чувство, – вспоминаю не мужчину из детства, а бывшего парня – остроумного, обаятельного, почти идеального, но держащего дистанцию, избегающего близости, дающего мне иллюзию безопасности, впрочем, во всем этом мне еще предстоит разобраться. Я пишу это, чтобы понять, что я из себя представляю, чтобы исследовать, как влияет на девушку, представительницу первого – свободного – постсоветского поколения, ранняя смерть отца и что вообще такое – отцовство.