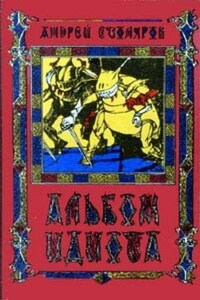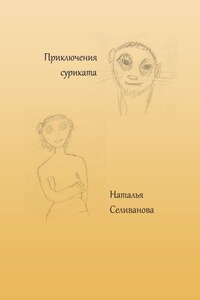1
Неприятности обычно вырастают из пустяков. Для меня эта история началась тогда, когда в сумерках майского вечера 1993 года у ступенек с платформы станции «Лобня» меня перехватил человек. Собственно, я знал этого человека: Каменецкий, такой-то избирательный округ, независимый депутат, если слово «независимый» не вызывает у вас усмешки, – в модном сером плаще с погончиками на пуговицах, белая рубашка, трехцветный «российский» галстук, а на голове – демократическая кепочка, как у мэра Москвы. Некоторые депутаты уже тогда начали носить подобные кепочки. Надо сказать, что я заметил его еще в электричке. Близки мы не были, баллотировались на выборах в разных избирательных округах, и поэтому до ненависти, как у бывших соперников, у нас пока не дошло. И в Верховном Совете он себя ничем особенным не проявил. Весь тот год, когда страна кипела и клокотала, когда лава страстей, казалось, выплескивалась из телевизоров, когда вспыхивали перед публикой и тут же гасли звезды ораторов, он провел где-то на заднем плане, в курилках Белого дома. Выступающим у микрофона я его, по-моему, ни разу не видел. Наши дороги не пересекались. Знакомство у нас было шапочное. Удивило меня только то, что он, вопреки обыкновению, не воспользовался машиной. Сам я, честно говоря, машину терпеть не могу. Есть в ней, по-моему, что-то самодовольное. Капризный, уродливый агрегат, жрущий время и силы. И тем более он был неуместен в ту романтическую эпоху: это что же, мы только что боролись с партийными привилегиями, а немедленно после победы сами расселись по горкомовским автомобилям? Мне, во всяком случае, было как-то неловко. Это сейчас после неожиданной и страшной смерти Герчика, после ночи, проведенной в лесу, где с нечеловеческим «хрум!.. хрум!.. хрум!..» трещали прошлогодние шишки, после пальцев, тянущихся ко мне из-за ствола сосны, после странных и жутковатых событий, чуть было не захлестнувших столицу, я, если задерживаюсь в Москве дольше обычного, обязательно беру на стоянке перед вокзалом машину и, платя двойной (ехать-то всего ничего) тариф, после некоторого петляния по переулкам высаживаюсь у самой калитки. Лобнинские частники к этой моей странности уже привыкли. Я подозреваю, что они считают меня безобидно чокнутым. В жигули свои, во всяком случае, сажают без возражений. По дорожке, скрипящей гравием, я быстро прохожу через сад и, защелкнув замок на дверях, тут же закрываю в доме все форточки. Моя Галина ругается, но я не переношу идущий от грядок и клумб душный запах земли. То есть, может быть, и запаха-то никакого нет – пахнет флоксами, которые мы каждой весной высаживаем в невероятном количестве, пахнет свежей травой, которую днем обычно накашивают соседи, пахнет горьким и едким дымком, потому что в поселке все время жгут какую-нибудь дрянь. А уже ближе к ночи накатывается аромат цветущего табака – нежно-белые, сахарные его граммофончики светятся в полумраке. Казалось бы, дыши и радуйся, но мне все равно чудится, что пахнет только землей – ее мертвенной сыростью, холодом, тянущим из глинистой глубины, – меня прохватывает озноб, и я поспешно закуриваю, чтобы отогнать этот запах.
Короче, с Каменецким мы почти не общались. И потому я был несколько озадачен, когда уже на сходе с платформы он вдруг цепко, по-начальственному взял меня за руку и серьезным тоном сказал, что нам следует поговорить.
Впрочем, я тут же понял, что ошибаюсь. Человек, подошедший ко мне, вовсе не был депутатом от такого-то округа М.Н. Каменецким. Он лишь внешне, правда очень существенно, походил на него. Позже, уже относясь к этому делу серьезно, собирая всевозможные материалы и буквально по мелочам восстанавливая подробности нашей первой встречи, я в какой-то момент осознал, что похожесть на Каменецкого была для него способом маскировки: Каменецкий тоже жил в Лобне (кстати, через две или через три улицы от меня), иногда (впрочем, нечасто) ездил домой электричкой, теоретически мы должны были с ним общаться. Не было ничего удивительного в том, что два депутата, встретившись, о чем-то поговорили. Если за нами следили, то именно так это могло выглядеть со стороны. Не имело никакого значения, что настоящий Каменецкий пребывал в это время в своей квартире, вероятно, ужинал или смотрел телевизор и ни сном ни духом не подозревал о существовании двойника. Здесь работал профессионал высокого класса.
Однако я понял это все значительно позже, а тогда лишь вздрогнул от неприятного чувства обмана и, освобождая руку, довольно сухо спросил, в чем, собственно, дело.
У меня были причины для такой сухости. Я входил тогда в Парламентскую комиссию, неожиданно оказавшуюся точкой приложения самых разных политических сил. Мы расследовали инцидент, произошедший в одном южном городе. Три недели назад там состоялась демонстрация местного населения – абсолютно мирная, как утверждали представители общественных организаций, выступление вооруженных боевиков, как заявил пресс-секретарь МВД. Демонстранты несли лозунги с требованием национального суверенитета («Не было никаких лозунгов!.. Были подстрекательские призывы!..»). Перед зданием горисполкома начались столкновения манифестантов с частями правопорядка. То ли кто-то из боевиков, сопровождавших колонну, выстрелил в милиционера, то ли кто-то из местных омоновцев зачем-то открыл огонь. Паника была колоссальная: крики, взрывы гранат со слезоточивым газом. Многие в этот воскресный день взяли с собой детей (что как будто подтверждает точку зрения общественных организаций). На беду, площадь, зажатая полукругами учреждений, имела всего два узких выхода. Я не знаю, кто ее так спланировал, наверное, какой-нибудь сталинский архитектор. Но когда обезумевшая, почуявшая смерть толпа начала рваться наружу, она в обоих проходах наткнулась на сомкнутые щиты спецчастей. Выхода не было. Первый ряд митингующих был наполовину забит и отброшен, а последующие людские массы пошли по телам упавших. Жертвы исчислялись десятками. Местное телевидение показало репортаж из двух районных больниц, после чего телецентр по распоряжению властей был занят ОМОНом.