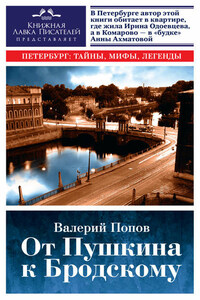Я лежу под яблоней, на раскладушке. Чуть дальше терраса. Картина необыкновенно ясная. Но все же я понимаю, что это сон. Потому что какой-то голос сверху спокойно говорит: «Спать под яблоней – это смерть». Яблоня, необыкновенно стройная и высокая (таких не бывает), поднимается прямо передо мной до неба и вся снизу доверху покрыта соцветиями из четырех нежных белых цветков. Ветра нет. Сзади, за моей головой (для убедительности?), хлопают двери автомобилей. Раскладушка очень удобная, широкая, можно сладко потянуться всем телом. Где-то рядом, я чувствую, спит и моя жена. Где точно, не знаю, но знаю, что здесь, – это и тревожит, и успокаивает. Все торжественно и роскошно. Снова хлопают двери – видимо, дорогих автомобилей. Съезжаются люди. Зачем?
Этот вопрос, заданный мною во сне, меня разбудил. Действительно, зачем съехались, если я еще жив? И у кого из моих друзей такие автомобили? Прицепившись, в общем, к мелочи, сон отвергаю. Не подошел!
Реальность – сильней. Какой-то вольный, веселый звук воды, падающей в звонкое железное ведро. Каждое утро, в положенное время! Люблю этот звук еще и потому, что знаю: после него будет полчаса тишины и покоя. Можно потянуться лежа. Все части тела на месте. И в больнице есть минуты блаженства. Тусклый рассвет. По коридору приближается какое-то уютное, даже веселое, бряканье. Сейчас тебе что-то привезут! Капельницу? Завтрак? И то и это – забота. Давно уже не было так спокойно и легко. Бряканье в коридоре удаляется, затихает… проехали. Знаю, начинают утреннюю раздачу с того конца. И эта уже знакомая подробность наполняет блаженством, какого не было уже давно. Вот где, оказывается, оно живет! У меня есть еще минут двадцать счастья, и я погружаюсь в него. Все молчат, никто еще не разговорился – время размышлений.
Пошевелил пальцами ног А вот и боль во лбу, словно выстрел. Нет, это сравнение снимаю. Боль гуманнее. Удивительно, что каждый раз она дает некоторую паузу – и только потом возникает полосой от макушки до левого глаза, мутя сознание.
– Да ты настоящих похорон не видал! – увесистый голос главного авторитета в палате. Нашли тему. Знает все, до мельчайших подробностей, и охотно делится. – Это же разве похороны? – презрительно произносит. Напоминает, кстати, «подавляющим авторитетом» моего друга Бориса, который, думаю, появится здесь.
А пока соседи стоят у окна и обсуждают вынос «клиента» из морга. Прямо под нашими окнами – нам повезло. Хватает и хлеба, и зрелищ. Разнообразие похорон возбуждает, наполняет всех то гневом, то умилением. Стыдно, конечно, что я не участвую в этом «празднике», но не могу встать – общая слабость. Ясное дело, симулянт, прогульщик «праздника похорон». Отношение к себе чувствую высокомерное: какой же это больной – даже без повязки на голове? Они все «бойцы», с боевыми травмами, полученными в результате столкновений с предметами и людьми. «Зайчики», как ласково называют они себя, с повязками на голове и марлевыми «ушками».
– О! Еще «зайчик»! – радостно приветствуют. – Ну, рассказывай!
И тот органично входит в коллектив. А я вроде как симулянт. Какие-либо внутренние причины болезни головы они отрицают – туфта! И мне, конечно, неловко…
– Нет, есть же такие люди! – «лидер» наш развивает тему. – Человек уходит! А они копейки считают. Стыдно за них. Гроб этот… дешевле раскладушки! – Презрительно машет рукой. Он бы, конечно, не поскупился… да денег нет.
– А я считаю, правы они, – вступает тощенький оппонент: – Лучше деньги в хозяйство вложить, чем в эту дребедень.
Авторитет медленно поворачивается. Вот сейчас размажет спорщика, соплей не останется. Хоть в полемику вступай, собрав последние силы, – на стороне, естественно, тощенького.
Но тут входит врач.
– Кыш от окна!
И палатная иерархия временно свертывается, все расходятся по местам и смотрятся просто как больные, несчастные люди. Но когда врач неожиданно садится сначала ко мне, несправедливость эта их бесит: «Порядок же должен быть! К кому сел? Тут человек есть – с крыши упал, а этот лепила сел к симулянту!» Вижу их возмущение. Всюду жизнь и борьба.
– Ну, рассказывайте, что случилось.
– Я уже рассказывал в приемном покое.
Мне не жалко, но больно говорить. И есть.
– Теперь расскажите мне, – мягко произносит он, – все, что касается вашего появления здесь.
– Ну, была боль, от макушки до левой брови. Пошел в поликлинику. Назначили процедуры, уколы. И вот прихожу на уколы. Второй раз. Лаборантка другая была. Первая была молодая… ядовитая.
Ядовитая: все подшучивала, подначивала.
– «Два укола, – говорит, – и оба в попу! Вы как больше любите: лежа, стоя?» – «В данной ситуации лучше стоя!» «И мне! – говорит она. – Вынимайте ампулы из коробочек. Сами, сами… Мелкая моторика – это очень важно для мозга». – Бодро сделала уколы, шлепнула, и я какой-то радостный от нее вышел, словно действительно у женщины побывал.
– Можно без отступлений?
– Можно. Но вы же сами просили все… А на второй день хмурая была, пожилая. «Стоя?» – бодро говорю. «Лежа!» – рявкнула. И я как-то расстроился… Всегда говорю не то… И – туман.
– Эпилепсией не страдаете?
– Нет.
– МРТ головы делали?
– Не помню. А, здесь? Нет.
– Не работает МРТ. Неделю уже, – подключились соседи.
– Болваны! – процедил врач.
Надеюсь, это не к нам относится.
И врач пересел к соседу.
А я сказал себе: «Скорее отсюда, всеми мыслями прочь, пока боль не заела!»
Я выхожу из арки (впервые после нашего переезда в Ленинград?) и стою бабушкой закутанный, перевязанный шалью – не двинуться. Лютый мороз. Слипаются ноздри, и я пытаюсь разлепить их, шумно выдыхая через нос горячий воздух, превращающийся в белые клубы пара. Это нравится мне – хоть какое-то действие. Выпустили постоять. Двигаться тяжело. И куда – непонятно. Обступает тьма, лампочка над аркой высвечивает чуть-чуть белые ямы и горы, рытвины и сугробы. И на краю первой рытвины я как раз и стою. Шагну – и ноги уедут вниз, и устоять не удастся, упаду. Выпустили, называется, мальчика погулять, чтобы освоился! Помню, произношу это мысленно, с легкой насмешкой. Тело неуклюже, того гляди свалюсь – а мысль уже летает вольно, судит обо всем с насмешкой и свысока. Это я отмечаю в себе. Первый выход надо запомнить.
Вдруг ко мне, как змея, тянется длинная тень от соседней арки. И вслед за ней приближается пьяный – неподвижный, стеклянный взгляд. Не найдя во мне ничего интересного, делает один неверный шаг – и исчезает, катится в яму, увидеть успеваю лишь взметнувшиеся руки. Выползает назад. Лицо уже другое, изумленное. Весь в снегу. Я, хороший мальчик, кидаюсь к нему, стряхиваю варежкой налипший снег. Теперь он внимательно смотрит на меня. Не ожидал, видимо, что его спасать будет такой малец. Покачиваясь, он лезет вдруг за пазуху, роется там, не вынимая руки, взгляд его становится сосредоточенным. Вынимает бумажку. Разглядывает ее. Явно он рассчитывал вытащить другую купюру. Целых три рубля. Злобно протягивает ее мне. Беру. Ясно вижу ее при свете фонаря. До того – и долгое время после того – не держал в руках денег, поэтому жадно вглядываюсь. Распознаю буквы: «Три рубля». И еще на этой жестковатой бумажке, словно промасленной, с таинственным мелким узором, изображен военный в шлеме. Летчик? Танкист? Радуюсь. Держу. Прятать некуда – весь замотан. Эх, надо было в варежку – не догадался! Не сказав ни слова (а ведь слово, как я тогда уже чувствовал, лучше всего), он поворачивается и продолжает свой трудный путь. И летит в ту же яму, взмахнув руками. Выбирается ошарашенный: что же, теперь так будет всегда? Я снова отряхиваю его, и вдруг он, повернувшись ко мне, резко выхватывает трешку из моей руки. Хватит, попользовался! Нароют тут ям – и обирают прохожих. Сейчас, чувствую, будет удар. Я пячусь и скрываюсь за калиткой. Но почему-то довольный. Приключение! И что-то уже соображаю для себя: удачей надо пользоваться молниеносно, не хлопать ушами.