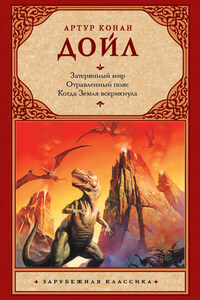Ох и парко, дышать нечем – старшая сноха Фиска белье досушивает. Суетятся, хлопочут. Батька спозаранку к сватьям уехал о припасах сговариваться. Матушка все сундуки перекладывает, приданое Машеньки перебирает. Серебристой рыбкой ныряет иголка в полотно беленое, стежок за стежком расшивает узорами подол рубашки свадебной. Доброе приданое, справное. И ярочки, и телочка, а уж птицы и считать утомишься. Утварь столовая не деревенскими гончарами работана, на ярмарке Петром Захаровичем куплена, вся сплошь разрисована. Не миски – картинки, впору на стену вешать вместо простовика.
Склонилась над работой Серафимушка, прошву морозными узорами выводит, на Машеньку поглядывает. А Машеньке будто и дела нет, что свадьба не за горами – прядет себе потихоньку, песенку мурлычет. Тяжко Серафимушке, привязалась к девке, будто дочери. Да и какая из нее жена – дите дитем. Но слова Серафимушки в семье Куделиных не слышны. Кто она? Младшая сноха, молодая вдовушка, бездетная к тому же. Приживалка, одним словом. А ведь было все: был муж озорной, веселый, была и доченька, но прибрал Господь ангелочка златокудрого. А следом и Сашеньку веселье сгубило, в пьяной драке душенька с телом распрощалась. И осталась Серафимушка хлебом хозяйским давиться, слезами умываться. Матушка Матрена Спиридоновна еще ничего, терпит молодку. Жалеть не жалеет, да скупа она на жалость, вон и последыша своего, Машеньку, не больно-то жалеет. Батюшка да деверь Егорий молчат больше, а Фиска на упреки не скупится. Ей ли молчать, когда свекровь свою меньшую дочь торопится с рук сбыть?
«Девка – семье обуза. Корми, не корми, все на сторону отдавать, так не лучше ли раньше скинуть?» – увещевала Матрена Спиридоновна батюшку с самого лета. К Покрову, устав от докучливой жены, Петр Захарович решился – пошептался с кумовьями, те дальше слух пустили, мол, дозрела девка, и зачастили в избу сваты. А Машеньке будто и дела нет: поет свои песенки, по вечеркам бегает.
– Душенька, – допытывалась Серафима заневестившуюся золовку, – скажи, открой сердечко, может мил кто? Ведь сосватают за нелюбого – беда.
Машенька лишь улыбалась и смотрела, не мигая, огромными выпуклыми глазами, будто не понимая.
– А мне-то что? Пойду за любого, чай и ты у нас живешь, привыкла.
– Привыкла, – вздыхала Серафима, поглаживая натруженной рукой мягкий шелк девушкиных волос.
Стежок, еще стежок, не рыбка – слезы серебристые, ниточки души. Голову поднимешь – потеряешься, мелькает все: бегают Гринька с Минькой по лавкам, меньшой Семка ползает под столом, кошку за хвост уцепить пытается. Фиска молчит, лишь печь жарче топит да тесто в кадке бьет злее. Поглядывает на Симу, ждет, что не выдержит сношенька, станет мальцов ее оговаривать. Уж тогда выпустит пар старшая сноха, припомнит ей бездетную утробу да холодность бабскую, что погнала Сашку на пьяную вечерку.
– На вечерке сказывали, – подала голос Машенька, – будто в осиннике за черной балкой появилось чудище.
– Ой, девка, слушаешь ты сказки бабьи.
– И не бабьи вовсе. Мирон Кривошеин Маруське рассказывал, будто следы странные аж к старому дому Демьяна подходят.
Старый дом Демьяна стоял особняком у самой околицы. Был он заброшен с прошлого года, когда вся семья нелюдимого Демьяна переехала в соседнее село, к доживающим старческий век родителям жены Демьяна. С тех пор про пустующий дом ходили разные небылицы.
– Слушай больше, – прикрикнула на девушку Фиска.
– Будто одноногий кто по снегу пробирался, следы только от левой ноги, а следов от палки нет. И будто бы шаги уж больно широкие.
– Никак оплетай завелся, – застыла Матрена Спиридоновна у сундука.
– Что за оплетай, матушка? – Фиска отбросила выбившуюся прядь и заработала кулаками еще быстрее.
– Чего же ты тесто-то дубасишь, – пришла в себя хозяйка семьи, – чай с любовью месить надо.
– Всех любить, любилка сломается. Я ее для Егора берегу, дабы не тянуло мужика на веселья холостяцкие.
– Охальница, – пожурила свекровь, – постыдилась бы, девка тебя слушает.
– Сегодня девка, завтра баба. Пусть привыкает.
Свекровь лишь вздохнула, старшую сноху не переспоришь.
– Ходила у нас сказочка еще в пору моей молодости. Будто живут на земле чудища, наделенные великой силой. И сила такова, что ни один человек пред ней устоять не может. Будто ходят они споро, убежать от них нельзя. А изловят – оплетают руками и ногами и всю жизнь человечью высасывают. Потому и оплетаями зовутся.
– И как же они всех людей не поели еще, – ухмыльнулась Фиска.
– Так мало их. Да и те, которые есть, живут половинками.
– Это как? – Не выдержала Серафима.
– Вот так: одна рука, одна нога, половина головы.
– Полно, где это видано, что об одной руке да ноге. А нужду тоже половинкой справляют? – Хохотала Фиска.
– Уймись, бесстыжая. Они и на одной ноге передвигаются, но медленно, а одной рукой жертву и не удержишь. Вот и бродят голодные, злые, ищут половинку. А коль отыщут, беда.
– И кого же они ловят?
– Да всех, кто попадется. А пуще всех – безропотных. Медовыми они им кажутся, вроде сдобы сладкой.
– Бросайте свои байки, вон и ребятишек напугали, – Фиска, наконец, оторвалась от теста и полезла под стол к плачущему Семке, который поймал кошку и был за то сильно оцарапан.
– Ишь, дьявольское отродье, – вышвырнула мать на мороз несчастное животное.
Серафима склонилась над работой. Стежок к стежку, половинка к половинке, даже нечисти одной тяжко.
И ночами жаркими не уснуть Серафимушке. В груди будто птица, запертая в клетку каменную – трепещется, бьется, коготками царапает. Темно, смрадно, только лампадка в углу тлеет, мигает звездой далекой. Чудится, на печи бабка Агафья ворочается, мается от бессонницы, молитвы шепчет губами иссохшими. Второй год как схоронили Агафью, второй год и пожалеть Серафиму некому.
– Ох, бабонька, силушки ты своей не ведаешь, дремлет она. Ты не смотри, что тихая, буря в тебе до поры зреет. Любви и смирения проси, – приговаривала старая, поглаживая непослушные завитки, укрытые платком.
– Да вроде смирная я, бабушка, Сашенька мой которую ночь на гуляньях, а я и не ропщу.
– А ты ропщи, не держи в себе, не корми бурю-то. Да и не дело, от молодой жены на гулянья бегать.
Но молчала Сима, все думалось, что сама с изъяном, вон и в родительском доме попрекали, говорили: не девка – колода колодой. А и впрямь колода, другие бы слезы лили, а ей не плачется. Оттаивать стала, как Любушку к груди в первый раз приложила. Смотрела на глазки синие, носик горошинкой и улыбка не сходила с лица. Фиска все ворчала, мол, младенцем будто куклой играет, а дела стоят. Да что ей ворчанье домашних, что хмельная грубость мужа, когда ее Любушка уже и сидеть стала, а потом и ножки пробовать. Шатается, за лавку держится, а топает. И так радостно Симе, так весело, лошадкой скачет, дитя тешит. Только недолго радость длилась, за два дня сгорела в жару доченька. Тогда и слезы, что на век бабий отпущены, выплакала. На мужа, лежащего под святыми, обмытого после лютой драки, не хватило. Окаменела, отяжелела, лишний раз рта не раскроет ответить. Только глядя на Машеньку что-то отзывалось в груди, будто тень Любушки. Но скоро и тени этой не будет, не будет сказок, что сама себе сказывала про выросшую доченьку, про свадьбу ее да счастье семейное. Ничего – пустота каменная.