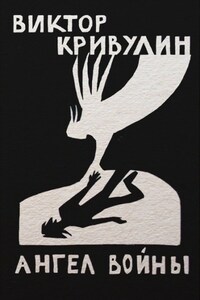Время наступило – такими словами три года назад началась эта книга, повествующая о бесконечном сидении пяти безымянных собеседников[2] в тупичке коммунального коридора, и тогда, три года назад, само начало казалось единственно возможным выходом из бесперспективного разговорного лабиринта, где мы кружим уже много лет (два последни х десятилетия по крайней мере), но вот – наступило время, пришли к нам люди с обыском, всем сказали: сидеть! – и мы сидим, потому что насту пило время, слава Богу, время наступило, может ведь ненароком и раздавить нас, но пусть! лишь бы не стояло на месте, лишь бы сделало хоть шаг вперед, а не топталось, не пятилось, пусть кончают они скорее свое дело, и методические их усилия пусть вознаградятся редкой находкой – рукописью в машинописном исполнении, начинающейся словами:
время наступило не то что тяжелое – бесконечное какое-то, сплошные разговоры в одной и той же ноюще-вопросительной тональности, как разговаривают «здесь-и-сейчас» четверо мужчин, от 30 до 40 (акмэ!)[3], кучно сидя в тупичке широченного коридора коммунальной квартиры[4] и пия – что за дивная деепричастная форма – «пия»! помнишь это великолепное опущение диафрагмы в конце пушкинского «…тихие слезы лия… и улыбалась ему, тихие слезы лия…»?[5] – и пия чай, разговаривают приглушенным разговором на виду (отчасти на слуху) многочисленных жильцов соседей-соквартирников, попробуй посиди так на виду лет даже двадцать назад, попробуй поговори так на темы отвлеченные – завтра же все четверо, по одному окажутся в другом месте, приспособленном для другого сидения и для другого, более напряженного, может быть, и творческого в смысле фантастичности – диалога, но не будет разговора вчетвером, не будет предмета, достойного собеседников, – это «сейчас-и-здесь» можно вечерок-другой скоротать за пустым разговором, не рискуя навсегда исчезнуть из виду, навсегда затвориться от соседей, исчезающих неслышно за дверьми своих комнат, где течет загадочная, своя жизнь, неслышно они возникают снова, чтобы исчезнуть за дверью общей ванной, общего туалета, общей кухни, не то что тяжелое время, конечно, и не чтобы они стали добрее за эти двадцать лет, да и нас не умудрило течение времени, просто все – и они, и мы – обмякли как-то, приустали, бесконечно тянется вяловатый разговор, истины, которые открываются через него, не будут уже оплачены жизнью и благополучием – так мизерны и робки эти истины, время вечернее, похожее на долго засыпающего ребенка, то и дело за дверьми какой-нибудь из комнат раздается ноюще-вопросительный тоненький голос, требовательно-зависимый голосок, тупые гаммы просеиваются сквозь музыкальное решето, разговор все более подпадает под обаяние вопросительной интонации – жалующийся отдаленный разговор, и тупиковый не только по месту и времени, но, главное, – по теме, так сказать, – по предмету: обговаривается тупик современной прозы (русскоязычной)[6], хотя тупик – только одна из точек зрения, крайняя, принадлежащая хозяину комнаты в конце коридора; но ему как хозяину позволено иметь крайние взгляды, это вроде бы одно из условий игры, где он играет роль хозяина – роль достаточно условную в условиях мало соответствующих уровню его интеллектуально-пространственных притязаний, и в самом деле, кто может окончательно быть уверенным в том, что он – хозяин в доме своем, в доме, где живет, в комнатке, где приходится жить, в растущей тесноте мира, когда самое время вспомнить начало послания Климента Римского, третьего папы после Петра, первые же слова звучат так: «Церковь Римская, странствующая в Риме…»[7] заметьте: не находящаяся, не пребывающая – но странствующая, все равно что сказать об уехавшей в штаты приятельнице и осевшей там: она «странствует в нью-йорке» – ага, тут-то он и возникает – образ полуголодной, изможденной женщины, с выразительными глазами и растрепанными волосами, в джинсовом рубище, бедная, лихорадочно листает записную книжку с адресами и телефонами таких же странников, составивших странную общину, где известие о том, что кто-то получил от фонда помощи бывшим политзаключенным месячный абонемент на бесплатный проезд в метро, воспринимается как жесточайшая обида, как трещина в хрупком, яичном универсуме каждого беженца, которому русский язык – не чужой, и если язык, как говорит немецкий философ, – это дом бытия[8], то бытие дома, где живет (странствует) любой из моих героев (героев? переспросите вы, ладно: пусть будет нейтральное – персонажей, фигур условно-литературных), язык их, повторяю, – вещь еще более условная, чем разговор, который (пока пишутся эти строки) не может сдвинуться с мертвой точки, не может набрать силу и скорость, заговорить языками человеческими и ангельскими, как не может и вдруг прерваться внезапным обрывом, молчанием, звонком телефона или в дверь, шоком от моментального сознания обретенной истины, мхатовским выражением удивления при виде приятеля, стоящего на пороге; классическая сценка для бытового театра – человек «после-столь-долгого-отсутствия»[9] на пороге, хозяин (условно говоря) дома при дверях, в дверях, и стоит на порог е человек, о нем (пока еще третье лицо) ни слова не произнесено, до «ты» еще доли секунды, о «нем» уже полгода известно, что он то ли сиди т, то ли сослан (кажется, все так и сидит), – однако нет, вот он – здесь, не сидит и не сослан, а стоит на пороге, из горького приехал, имеется в виду город, а не писатель, но это сообразишь много позже, когда новый гость, снимая пальто, оживит замолкший разговор историей о проводнике общего вагона[10], который, закупая водку для ночной торговли, отстал от поезда в кинешме, непонятным образом вернулся в тот же горький, как-то добрался до военного городка, там его брат служил начполитотдела в лётной части, уговорили двух молодых ребят всего за пару полбанок взлететь и посадить бомбардировщик на военный аэродром под В., где он и догнал странствующее по стране место своей службы как ни в чем не бывало, никто из бригады не спохватился, думали: напился пьян и спит где-нибудь в мягком вагоне, запершись с дамой, всю оставшуюся до ленинграда дорогу не мог изжить головокружительного чувства скорости и полета, нашел двух собутыльников, в том числе моего приятеля, показал, как нужно поднимать военный самолет в воздух и, показывая, увлекся: ударился виском о железный угол, потекла кровь, потерял сознание, на московском вокзале вагон уже встречала медсестра с чемоданчиком и ждала у грузового лифта в начале платформы скорая помощь с шофером и врачом – и когда окончательно поймешь, что здесь никаким писателем не пахнет, окажется, что разговор перекинулся на Сахарова (только-только выключено радио, повествовавшее об условиях жизни ссыльного академика в горьком) и что новый гость, будучи сослан в горький за тунеядство перед олимпиадой, попал на четверть часа к тому же Сахарову, он и раньше поговаривал о каком-то сахарове, но разве могло прийти в голову, что подразумевался не известный московский детский писатель сахаров, нарком и алкоголик