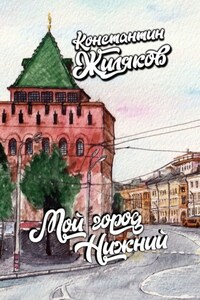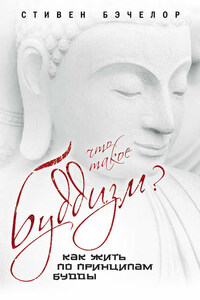Семену Подольскому надоело жить. Сперва он ушел от родителей, потом из института, потом от жены. Когда он снова вернулся в родительский дом, мать уже умерла. На завтрак, на обед и на ужин они с отцом ели картошку в мундирах с солеными огурцами. Подолгу на одном месте Подольский работать не умел: надоедало. Он мечтал иметь автомобиль марки «пежо», нескольких красивых любовниц разных национальностей, друзей, много денег, фирменные джинсы, загородную виллу, яхту. Ничего этого у него не было. Ему исполнилось тридцать пять лет, он начал седеть. Носил брюки, сшитые на калининской швейной фабрике, и отцовскую клетчатую рубаху. У отца жил уже шесть недель. Сперва все было внове, казалось, что он возвратился в счастливое детство, потом навалилась тоска. Отец получил пятьдесят два рубля пенсии, и они вместе ее пропили. Отправляться в дальние странствия теперь было не на что. И тогда Подольский решил, что надо попробовать повеситься.
Он взял веревку, ловкий маленький топорик, толстый баржовый гвоздь и вышел из Бусыгина по Новолазаревской дороге. «Решат, что я опять в лес пошел», – подумал он: иногда он уходил в лес, сооружал там шалаш и ночевал в нем. Так поступал он в том случае, если отец говорил, что пора бы ему браться за ум и устраивать свою судьбу; «слава богу, не двух по третьему», ворчал отец. В шалаше было очень тихо, никто не досаждал, только звенели комары да ухал филин; проснувшись, Подольский завтракал кореньями, щавелем и черникой, купался в реке и ловил рыбу, которую съедал вечером. «Если повеситься не смогу, пойду снова в лес», – подумал он. Гвоздь он взял неспроста; конечно, в лесу достаточно прочных суков, но ему хотелось оформить это дело культурно. Одно такое культурное место он знал, но там не на чем было повиснуть даже картине, не то что человеку.
Он вышел за околицу и вдохнул застоявшийся воздух ячменных полей, окутанных сумраком. Над низкой лощиной поднимался сизый туман; черные ивовые кусты стояли по пояс в тумане неподвижно, как лошади на водопое. Было безветренно и душно. Навстречу, обволакивая небо и землю, неуловимо и бесшумно, но неуклонно надвигалась пепельно-сизая грозовая туча, изредка разрывая мрак проблесками отдаленных молний. От ее неукротимого движения на душе у Подольского было весело и страшно. Оцепенелая окрестность тягостно ждала, как сладостного бичевания, порывистых натисков крепкого, тугого ветра, дождевого шквала, фосфорического сияния молний, которые вонзаются в землю, распространяя богослужебный дым.
Подольский свернул на придорожную тропу. Поля остались позади. Тропа вилась среди ольшаника и молодых берез. Они заслоняли горизонт. Подольскому хотелось знать, что происходит на небе, но он видел только кусты, кусты и огромную ель впереди, у переплетенных корневищ которой кочевые цыгане разводили костер и разбивали палатки. Здесь они чинили сбрую, повозки и говорили на своем наречии, а угрюмая ель вслушивалась в их толки. Минуя пепелище, Подольский увидел цветную тряпку в траве да обгорелую оглоблю – вот и все, что осталось от их пристанища. Мальчиком Подольский любил убегать к цыганам, хотя мать говорила, чтобы он держался от них подальше, потому что они способны наводить на людей обморочную порчу: люди от этого становятся беспечными и готовы отдать не только деньги, но и последнюю нательную рубаху.
Быстро и зловеще темнело. Разорванное облако, провозвестник грозы, меняя очертания, пронеслось над головой, и сзади стало так же темно, как впереди. Но под ногами твердо стукала кремнистая тропа, и Подольский шел быстро, уверенно, в каком-то бодром возбуждении. Он шел навстречу грозе, отдаленно рыкающей, как разбуженный зверь, он вызывал стихию на единоборство, он ждал той минуты, когда в грудь ударит тугой сгусток ветра и согбенные березки испуганно залепечут покорной листвой, он безумно и радостно ускорял шаги. «Успею до грозы в этот сарай!» – подумал он в ребяческом азарте и улыбнулся. Он любил этот сарай, как и свои шалаши в лесу. Там хорошо и свободно думалось. В сарае, прислоненная к стене, стояла, ощетинясь зубьями, заржавленная борона. Больше в нем ничего примечательного не было. Одна доска оторвалась, и в щель просматривалась дорога, убегающая за поворот. На стене было написано черным грифелем: «Вовка Кудеяров – Фантомас!» Новолазаревские и бусыгинские мальчишки часто съезжались сюда на велосипедах покурить без присмотра и поговорить о жизни. «Они меня и обнаружат», – подумал Подольский.
На разгоряченный лоб упала капля дождя. Легкий шелест пробежал по кустам, словно в них ожили и задвигались, волоча длинные шлейфы, таинственные духи тьмы. «Не успеть!» – подумал Подольский, раздражительная торопливость овладела им. Он побежал. Хотелось бежать, бежать, бежать и прибежать куда-нибудь на Командорские острова, зайти по горло в воду и увидеть дельфина: говорят, у дельфинов есть какая-то цивилизация, с ними можно поиграть и подружиться. «Надо бы спросить, нет ли у кого в поселке бросовых щенков», – подумал Подольский на бегу: он все-таки еще хотел жить и подыскивал запасные варианты. Он бежал, ощущая душевный подъем. Казалось, что, вырвавшись из сумрачного сторожевого оцепенения кустов к сараю, он преодолеет сопротивление своей косной оболочки. Тело, хотя и послушное каждому движению души, мешало, сковывало. Мешал топорик за поясом; Подольский, остановившись на бегу, вынул его; теперь бездеятельная праздная рука могла с силой сжимать холодное отполированное топорище. Упало наземь с шорохом еще несколько капель дождя. И вот все затихло. Потом впереди послышался нарастающий ропот, словно дальний отзвук снежного обвала, и в лицо ударила лавина встречного ветра. Подольский вырвался из кустов – и остановился; гулко бухало сердце. Он оглянулся, потому что показалось, что кусты его догоняют, простирая жадные ветви. Кусты отшатнулись и застыли на месте. «Псих», – подумал он про себя и побежал к темневшему слева сараю, но запнулся и упал. Грубый толчок земли неприятно отрезвил его, земля под телом покачнулась и поплыла; ему захотелось остаться лежать здесь, дожидаясь ливня. Топор тупо прозвенел в стороне, и пока Подольский разыскивал его, ощупывая траву, его не покидало ощущение, что нужно торопиться.
Когда он подбегал к сараю, сверкнула молния, короткая, призрачная, ослепительная, озарив зловеще искаженную местность, сорванные с петель двери, прислоненные к стене. Молнийный свет скользнул, как стальной клинок, в черную глубину сарая, рассыпался и исчез в щелях. Тотчас оглушительно треснуло, и могучие жернова загрохотали вверху. Подольскому захотелось рассмеяться, как от щекотки. На секунду ослепнув и оглохнув, он ощупью пробрался в сарай и прижался к шершавым доскам. Чудные восходящие токи омывали тело, соединяя его со стихийной природой.