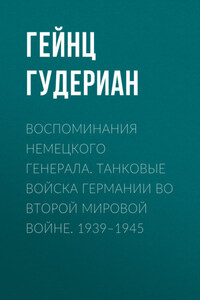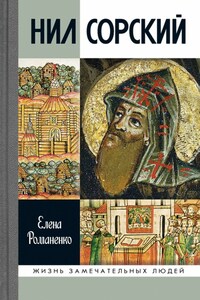Хотя наш рассказ и носит столь научное название, речь о Чарльзе Дарвине, его теории и его преемниках не пойдет. Речь пойдет о студенте первого курса биологического факультета Логатовского педагогического института Семене Подольском, о том позоре, которым он покрыл себя навеки, и о житейском экзамене, на котором с треском провалился.
Итак, вышеозначенный первокурсник Семен Подольский сидел в общежитии у распахнутого окна у себя в комнате и взирал на улицу. Был вечер, не блиставший красками; спускались сумерки.
Подольский кисло подумал, не сесть ли за стол и не зарисовать ли с натуры широкими, щедрыми мазками открывавшуюся панораму с высокой, слабо дымившейся заводской трубой, которую можно было, творчески переосмыслив, изобразить вечнозеленым деревом, а прямоугольные дома – дикорастущими кустами; и назвать картину, например, так: «Закатное светило бросает свой последний луч». Но от природы ленивый, как сто мулов, вместе взятых, Подольский даже не шелохнулся, меланхолично поплевывая вниз шелухой. Увы! Именно так и угасают в нас, не родившись, творческие порывы.
За окнами не происходило ничего замечательного, внутри комнаты – и того меньше, поэтому, с легкой одурью в голове от непрерывного лузганья семечек, душевно вялый, Подольский прошелся из угла в угол, позевывая от скуки, и решил навестить соседок – комнату №17, где жили девушки с физико-математического факультета. К ним он наведывался часто и запросто, чтобы поболтать, а хохотунья и насмешница Таня Боровская ему даже определенно нравилась – первое робкое чувство восемнадцатилетнего юноши. Таня, которая была на четыре года старше его и, пожалуй, умнее, всерьез его не воспринимала, потешалась над его неопытным чувством, и тем насмешливее, чем настойчивее он к ней «лип»; зато Ира Перепелкина, чудаковатая особа в очках, жеманница и кокетка, к которой он был совершенно равнодушен, в свою очередь проявляла почти собачью привязанность к нему, уводила его в коридорные тупики и закутки, где было потемнее, лепетала всякий вздор и ждала, когда же он осмелится ее поцеловать (губы у нее были полные, а глаза, даже и за стеклами очков, красивые – миндалевидные, с густыми длинными ресницами). И то и другое (и то, что он к а к б у д т о любит, и то, что к нему самому неравнодушны) было внове для Подольского, и, следовательно, в семнадцатую комнату его тянуло неспроста. Даже если ни Тани, ни Иры там не окажется, можно очень мило позубоскалить о том о сем с Наташей Волковой, щуплой и невзрачной, но добросердечной девушкой, которая исполняла роль арбитра в запутанных отношениях Подольского с семнадцатой комнатой…
Постучавшись и войдя, он, к удивлению, увидел, что все в сборе, что накрыт и уставлен закусками стол, а за столом сидят какие-то незнакомые парни – очевидно, городские.
Он смекнул, что отмечается чей-то день рождения, на который его почему-то не пригласили (вероятно, потому что и парней тоже было трое, из чего следовало, что он был бы лишним). Надо сказать, что наш юный герой был человеком очень наивным; он лишь удивился непостоянству девушек, которые обычно столь ласково его привечали, но что следует извиниться и ретироваться – об этом он даже не подумал; напротив, сдержанное вежливое приглашение к столу принял всерьез и немедленно им воспользовался. Девушки представили его парням, которые были уже сильно навеселе, но обменяться с ними рукопожатиями он тоже не счел нужным: от застенчивости.
Сперва все шло благопристойно. От предложенной водки Подольский отказался (опять-таки неблагоразумно, как впоследствии оказалось, потому что тем самым восстановил парней против себя); но иначе он не мог: водка его не веселила, а угнетала. Сидя скромненько за краешком стола, он поглощал вафли, печенье, пил лимонад и думал, что вскоре все, не исключая и девушек, будут напоминать козаков, напавших на винный погреб жида. Пьяная расторможенная беседа, прерванная его приходом, продолжилась.
Поскольку пир как таковой описан всеми от Гомера до Куприна и нынешних сочинителей, то вряд ли нужно подробно растолковывать, какие произносились тосты, что было на пиршественном столе, в чем щеголяли пирующие, как разгорались страсти, блуждали глаза, пылали щеки и заплетались языки. Скажу лишь, что как раз в тот момент, когда Подольский насытился и поднялся из-за стола, вместе с ним поднялся и Мишка Шальнов, известный всему Логатову, кроме Подольского, как «шпана» и «мордоворот». После всего, за тем происшедшего, Мишка Шальнов воспринимался чувствительным Подольским чуть ли не как воплощение мирового зла; и если бы ему самому пришлось описывать Мишкину внешность, он прибег бы к шаржированной гиперболической экспрессии, которая, разумеется, исказила бы объективную действительность, но зато уж была бы эмоциональна и оценочна. Он написал бы, что лицо Мишки было обширно, как крестьянское блюдо; его кожа напоминала чешую копченой трески; его глаза зауживались щелевидными амбразурами; его скулы были словно у буйвола; его нос распух, точно у многократно битого боксера; его рот источал болотные миазмы; его прическа повторяла шевелюру питекантропа; его шее недоставало хомута; его руки равнялись с дубинами; в его глазах стыло тупое, угрюмое и бессмысленное выражение собаки, которую ради хохмы допьяна напоили.
Итак, этот монстр, а в сущности – объективный Мишка Шальнов, нетвердо ступая, подошел к Подольскому, на которого тотчас повеяло многодневным перегаром, и хрипло попросил сигарету.
– Выйдем покурим в коридор, – сказал он вполне миролюбиво, и простодушный Подольский, решив, что с ним хотят познакомиться поближе, охотно согласился.
Они вышли – впереди Мишка, за ним Подольский. Однако не успел Подольский притворить за собою дверь, как Мишка с размаху ударил его по лицу. Подольский ощутил тупую боль и влетел обратно в комнату задом, растянувшись посреди нее. В первое мгновение он не мог даже понять, что с ним случилось; потом дико обозлился, так что казалось, будто его нельзя ничем обуздать, рванулся на обидчика, но сзади, словно рой докучливых мух, налетели девушки, удерживая и уговаривая его. Кровь сочилась из разбитого носа, и с каждой его каплей вытекала из Подольского решимость драться. Ему был нанесен тот самый упреждающий удар, за которым неизбежно следует моральная капитуляция. Во-первых, интеллигентный хлюпик, он опешил от неожиданности; во-вторых, подумал вдруг, что, если ввяжется в драку, ему одному придется иметь дело с троими; в-третьих, будет небезопасно появляться в городе, потому что в каком-нибудь тихом переулке его поймают и… Картина ясная: могут забить до смерти. А надо сказать, что наш герой до поступления в институт в городе ни разу не был и теперь чувствовал себя в нем и неуверенно, и неуютно. Его взгляд кипел злобой, а в голове, точно в шкатулке с безделушками, искалась одна-единственная пуговица от лифчика: как бы проучить врага, не прибегая к ответным действиям? Мишка гнилостно и самодовольно ухмылялся, а Подольский с ужасом понимал, что не сумеет дать достойный отпор: срабатывали некие защитные механизмы самоспасения. Ибо он рос тихоней и никогда еще не бил никого; ни одного расквашенного носа или фонаря под глазом не было на его счету; да он и не подозревал, что такое с ним случится. Чтобы хоть перед девушками-то не осрамиться, напоказ он рвался в бой, но не слишком в этом усердствовал, благоразумно позволяя себя удерживать.