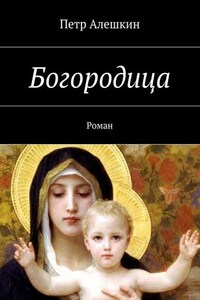Не все ли равно, про кого говорить?
Заслуживает того каждый из живших на земле.
Иван Бунин
А этот человек, безногий Иван, более чем кто-либо заслуживает разговора о его жизни.
Почти каждый день можно увидеть его в подземном переходе к станции метро «Третьяковская». Он сидит, если так можно выразиться, спиной к стене, к холодным кафельным плиткам мутно-грязного цвета, на низкой деревянной платформе с колесами от детской коляски. Прохожим, плывущим мимо него в бесконечном потоке, кажется, что у него нет не только ног, но и живота, что он лишился всей нижней части своего тела по грудь, и похож теперь на живой бюст, снятый с пьедестала и поставленный к стене на тонкую деревянную платформу с колесами.
У каждого, кто случайно кинет на него взгляд, невольно возникает в душе жалость, беспокойство, непонятное чувство вины, и прохожий суетливо отводит взгляд, торопливо проходит мимо, стараясь поскорее забыть его. Ведь тем, кто ездит в метро, новая жизнь принесла одни заботы, проблемы, нужду, у каждого своя боль, свои горести, и большинство людей, как это ни горько, в тяжкие последние годы привыкло не пускать в свою душу чужую боль. Изредка кто-нибудь приостановится, смущенно, виновато вытащит кошелек, бросит мелочь в серую кепку, лежащую пред обрубком человека, и, не оглядываясь, заторопится дальше, со смутным чувством беспокойства в душе благодаря Господа за то, что дает возможность бегать по земле на своих ногах.
Иван молча слушает глухой звон монет в своей кепке и не поднимает головы, ничего не говорит вслед сердобольному человеку. Он молчалив, не докучает прохожим жалобами на свою судьбу, не просит подать ему ради Христа на пропитание. И самодельного плакатика с жалостливыми словами нет перед ним. Только потрепанная кепка с медной и тускло-серебристой мелочью. Лицо его, худое, тонкое, серое, с продолговатым тонким носом, всегда хладнокровно, бесстрастно. Спокойные глаза умны, но смотрят внутрь, давно привыкли к мелькающим по пыльным плитам перехода ногам, шуршащим подошвам и резко щелкающим каблукам в сухую погоду и хлюпающим и мягко чмокающим осенью и зимой.
Сегодня в переходе сыро, грязно. На улице метет. Люди, спустившись по мокрым, заснеженным ступеням в довольно глубокий теплый переход, смахивают с плеч снег, выбивают его из шапок. От тающего снега на полу мутные разводы, грязные лужи.
Иван с утра догадался, что будет слякотно в переходе, и прихватил с собой небольшой картонный лист, подложил его под кепку на мокрый пол. Как всегда он внешне спокоен, невозмутим, но мысли его тревожны. Думает Иван о матери. Утром она с трудом, громко охая и кряхтя, еле сползла с кровати, еле добрела до умывальника, тяжко бормоча на ходу, скорее всего для себя, чем для сына, привычные для него слова, мол, если бы не сын-калека, то давно б уж не встала с постели, померла спокойно, ничего радостного в этой жизни ее не ждет. Она уже третий день не выходит из комнаты, ноги ослабели. Не приведи Господь, думает Иван с тревогой и тоской, ноги у нее совсем откажут. Что тогда делать с матерью? Как он будет ухаживать за ней? Руки у него сильные, но не на что опереться, чтобы поднять ее, перевернуть в постели, перестелить простыню. Иван не замечает привычное мельканье ног перед его лицом, не слышит мокрое шлепанье обуви по бетонным плитам пола, не слышит редкий звон монет в кепке, не слышит шуршание газеты, которую расстилают у стены рядом с ним, сопение, легкие стоны опускающегося на газету человека. Очнулся он только тогда, когда этот человек, тихонько, дружелюбно толкнул его в плечо, говоря:
– Привет, Иван!
Иван повернул к нему голову, узнал таджика, бомжа, но ничего не ответил, только уголки его губ чуточку приветливо дрогнули.
Но таджику и этого было довольно. Он знал, что Иван не разговорчив. Имя у таджика длинное, слишком заковыристое для простого языка, и потому его звали Юсупом. Он привык к этому имени, и охотно откликался.
– У-у, зябко! – передернул плечами Юсуп, потирая руки, и прижался спиной к стене. На нем было старое грязное пальто с вытертым облезлым овчинным воротником, старая кожаная шапка-ушанка, такие носят деревенские старики. И пальто, и шапка, и редкие черные волосы на его смуглом до черноты, морщинистом лице тускло блестели капельками от растаявших снежинок. – Худо! Совсем худо! Худой день! Согреться надо, – бодро проговорил Юсуп.
Он шустрым взглядом черных глаз окинул переход со спешащими мимо людьми; нет ли поблизости милиционера. Убедился, что нет, и сунул руку за пазуху, вытащил четвертинку дешевой водки и смятый пластмассовый стакан, который он только что взял со столика у киоска, стоявшего в переулке неподалеку от спуска в переход. Кто-то выпил кофе и оставил его на столике, не выбросил в урну.
Юсуп с хрустом расправил стакан, со сладострастным блеском в нетерпеливых маленьких черных глазах быстро свернул головку четвертинке, плеснул в стакан водки и протянул Ивану. Тот взглянул в сторону светлеющего неподалеку входа в переход навстречу потоку людей, туда, откуда всегда появлялась она: рано еще, – подумал Иван и неспешно взял, неспешно выпил и вернул стакан. Таджик сунул ему карамельку:
– Засоси!
Юсуп снова нетерпеливо булькнул водку в стакан и мигом выпил.
– А-а-а, – радостно выдохнул он. – Сейчас потеплеет.
Юсуп сунул бутылку и стакан назад, за пазуху, и снова прижался спиной к стене, замер, закрыл глаза, в ожидании, когда тепло разольется по всему телу. Тогда еще можно будет немного выпить, уже не для тепла, а для радости жизни.
Иван медленно катает языком во рту карамельку. Тепло быстро растекается по маленькому остатку тела Ивана, туманит глаза, наполняет сердце нежностью к таджику.
Юсуп ростом мал, но крепок, здоров. На вид старик-стариком, а ему еще и пятидесяти нет. Где-то далеко, в теплой стране, у него была семья: жена, отец-мать, дети. Их кормить надо было, а денег в теплой стране заработать негде. И подался он в холодные края, строить богатую Москву. Уверен был, что каждый месяц будет посылать деньги домой, семье.
Он когда-то был в Москве, провел в ней три дня по пути домой из армии, помнил дружелюбных москвичей, помнил шумные улицы, строгий и добродушный Кремль, веселые парки, помнил это и верил, что не пропадет, сможет поднять семью. Никто не сказал ему, что Москва давно уже не доброжелательна и не добродушна, и веселье ее тревожное и жуткое, как перед смертью. Беззащитного таджика московские мошенники обманули раз, обманули другой, третий, лишили паспорта. Постепенно опустился он на самое дно. Стал бомжем по кличке Юсуп.