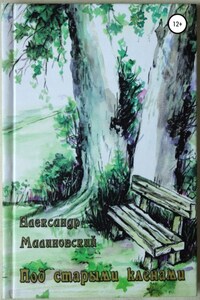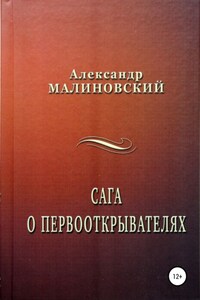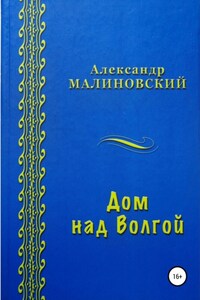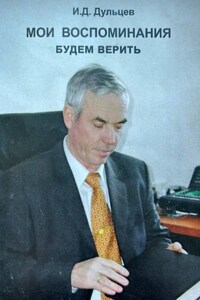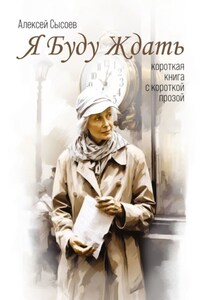На тропинках моего детства
Они разные – тропинки моего детства. Одни – утоптанные, утрамбованные десятками мальчишеских ног, пройдешь по ним босиком и не оставишь следа. Другие – уже полузабыты, заросли травой-муравой. А есть одна, зовущая к обрыву у реки, прямая, словно струна. Когда я поднимаюсь по ней под бесшабашное ликование жаворонка в синеве или гляжу, как идёт семилетняя соседка Любка, несущая на самодельном коромысле крохотные ведерки с водой, мне кажется, что тропинка поет. Поет что-то своё, высокое и вечное. И впрямь, как струна!
Все тропинки начинаются незаметно. Выйдешь за село, выберешь нужное направление, а когда посмотришь под ноги, она уже тут – тропинка. А рядом её подружки: бегут, извиваются, заманивают…
Есть тропинки, которые, добежав до бочажка или до лесной полянки, обрываются так же незаметно, как и начинались. Но есть и такие, что, поплутав по овражкам, зарослям шиповника и ежевики, вдруг выходят на шумный большак и вливаются в него, как ручейки.
И покажется вдруг, что сама дорога – это несколько объединившихся тропинок. И потому так шумна она, что каждый ручеек принёс с собой свои звуки, журчание своего родничка, шлепанье босых ног своих мальчишек…
Я давно мечтал вернуться на тропинки моего детства. Так хочется иногда снять башмаки и босиком припустить по тропке, да так, чтобы в лицо бросились мокрые ветви, осы`пали крупной росой и где-то за поворотом, вдруг, сразу – голубизна знакомой с детства, но уже немножко другой речки.
Или так: выйти потихоньку на закате за село и не спеша побродить. И не спеша обдумать житье-бытье своё, обдумать то, что тебя давно «томило, мучило и жгло».
И, прислушавшись в звёздном сумраке к собственным шагам, может быть, найти ответы на вопросы, которые не раз задавал себе…
Моё село заметно меняется. Газовые плиты потихоньку вытесняют русские печи. Моя бабка, искусная варительница дрожжей на всю нашу улицу, уже и забыла, когда готовила их в последний раз. Забыл и я, когда в последний раз добывал ей хмель в лесу. Теперь все привыкли к «базарискому» хлебу.
Но дед Андрейка обижен на жизнь:
– Ракеты запускаем, а простой керосиновой лампы завезти в сельпо не можем. – Это после того, как на прошлой неделе два дня не было электрического света в селе: как раз, когда по телевидению показывали фигурное катание.
Село потихоньку строится. Только немножко жаль – телевизионных антенн над крышами все больше, а скворечниц – меньше.
Водопроводные колонки начали вытеснять колодцы. Лишь на нашей улице по-прежнему стоит колодезный журавль, как и в детстве задрав шею высоко в небо. И кажется в морозные синие ночи, что, дотянувшись до холодной звезды, он тихо касается её, и оттого сверху доносится холодный тихий звон. Или это звенит колодезная цепь?
Колодец зовется Нестеркиным. Был когда-то, говорят, такой мужичок по имени Нестор. Вот и нарекли вырытый тем мужичком колодец его именем да в свой срок чистят и поправляют ветловый сруб – знаменита на всю округу вода его.
С детских лет не тускнеет в памяти картина. Зимний вечер. На печке тепло и привычно. Монотонное повизгивание бабкиной пряхи порой заглушают порывы ветра. За стеной февральская метель. На сундуке мурлычет кот. И от его тени на бревенчатой стене, большой и причудливой, немножко жутковато. Весь день падал с небес белый косой снег, и было странно видеть: снег белый, а становилось от него во дворе темно. Позёмка разыгралась, когда начало смеркаться. В дремотной тишине мне слышатся странные звуки. Прислушиваюсь – звуки ещё жалобнее. «Это же Тема и Жучка, там, в колодце. Им надо помочь!» Незаметно для бабки сползаю с печки и, растворив дверь, проваливаюсь в темень. Увязая в синем и мокром снегу, добираюсь до колодца. Перевесившись через обледенелый сруб, кричу в глубину. Пустынное чрево колодца отвечает глухо и насмешливо:
– Тё-о-мма-а!
Никого нет.
Испуганно оборачиваюсь назад и враз утопаю в бабушкином полушубке…
…Сегодня утром, проходя мимо колодца, не удержался от соблазна, подошёл и, отодвинув в сторону бадью, заглянул в него. Не такой уж он и глубокий, как мне казалось раньше. И уж совсем не страшный…
Все правильно – мы взрослеем. Давно уже выросли из детских своих одежек. И что же грустить по этому поводу? Может, просто жить?
Но что значит жить?
Наверное, идти, торить свою дорогу, узнать, постичь, на что ты способен. И постоянно беречь в себе впечатления того далёкого, отлетевшего детства, той чудесной поры, когда окружающая нас жизнь была на тысячу красок ярче, а собственная – походила на огромный, пахучий, едва-едва початый каравай ржаного хлеба…
И разве можно по-другому!..
Пожар за ночь уничтожил два двора, легко расправившись с тесовыми и соломенными крышами. И теперь на месте пятистенника Суховых стояла почерневшая от копоти печка да чуть на отшибе торчала невесть как уцелевшая скворечница с раскрытым пустым ртом.
Несмотря на ранний час, на куче хлама копошатся стайкой ребятишки. Чуть поодаль, около палисадника, на свежеошкуренном осиновом бревне сидит дед Андрейка. С пшеничными прокуренными усами и большими шишковатыми руками, которые мелко подрагивают, как бы прося работы, – таков дед Андрейка. Дедова саманная изба уцелела, сгорели деревянный сарай и погребица.
Поздоровались. Я присел рядышком.
– Председатель наш, Петрович, обещал прислать к вечеру трактор – свезти бревна на пилораму.
– Много ль сгорело?
– У Суховых подчистую все, а моё успели вынести, только вот книжки очкарика порастеряли.
– Очкарика?
– Жил у меня около двух лет учитель Вадим Сергеевич – математик. Странный был мужик. Да и то, какой он мужик? Мальчишка совсем, худосочный, как вон та скворешня. Все, бывало, говорил про себя, что знает только то, что ничего не знает. Как же, спрашиваю, тогда учительствуешь-то? А так, говорит, каждый день приходится краснеть в классе.
И то верно, маловато, видать, в институте чему научился. Ночами так и сидел за книжкой. А нашим ребятишкам дай все знать, и точка. Они по необразованности такой вопрос поставить горазды – профессора испужать можно.
– А сейчас где же учитель?
– А вот, дружок, и не знаю. Я тогда со своей глаукомой в Куйбышеве в глазной больнице лежал. Приехал через месяц – его и след простыл. Только моей Захаровне сказал, что мать позвала к себе в Саратовскую область – она у него болела крепко. Писали мы с Захаровной с год после отъезда учителю, но ни слуху ни духу.
Глубоко вдавив окурок сапогом в землю, дед Андрейка потянулся к топору.
– Ну, наговорились мы с тобой, как бы мне не запоздать в срок с бревнами-то. Покопошусь ещё малость.
В это время к нам подошёл восьмилетний внук деда Андрейки – Вовка, с обгоревшей тетрадью.