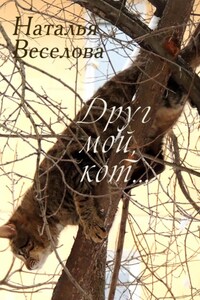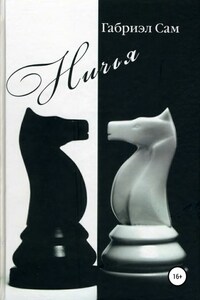1
Напротив, далеко за Академией Художеств, и еще дальше и правее – надо всей Петроградкой, в стремительно ярчавшем небе вдруг неведомым образом оказалась словно застывшая на лету со сложенными крыльями бессчетная стая огромных черных птиц. Вот только что они с Кирой шли к зловеще багровеющему в теплой светлой ночи Эрмитажу через площадь Урицкого1 – и небо было волнующе перламутровым и высоким, без намека на что-то пугающе чужеродное, не идущее городу, как черная фетровая шляпа не пошла бы сегодня к голубому крепдешиновому платью его жены. Жены… Какое странное слово применительно к Кирочке! Подождите-подождите – а он-то ведь – муж, выходит! Кровь бросилась Борису в голову, потому что именно сейчас, на подходе к мосту лейтенанта Шмидта2, до него вдруг дошел неоспоримый факт, которому в одиннадцать часов утра наступившего воскресенья должно было исполниться ровно двадцать четыре часа: в субботу они действительно расписались в одном из районных Загсов и даже получили на руки кремовою бумажку с гербом. Фиолетовые буквы, торопливо написанные невыспавшейся служащей, подтверждали со всей несомненностью, что они двое, Борис Александров и Кира Зуева, вступили вчера в самый что ни на есть законный брак…
– Зачем эти аэростаты? – прозвучал рядом удивленный и даже словно обиженный Кирочкин голос, и Борис, очнувшись, вздрогнул. – Вот кому, интересно, пришло в голову в такую чудную, такую теплую ночь… Вернее, уже утро… Затевать какие-то учения по ПВХО? Ну, хоть бы сегодня…
– Они же не знали, что у нас свадьба, дурочка… – Борис осторожно приобнял ее, ощутив под рукой модный плотный подплечник. – Вот если б знали, – тогда, конечно…
– Иди ты! – Кира смущенно высвободилась и – закружилась по гранитным плитам, запрокинув голову, невесомая в своем первом «настоящем» платье и ловких черных туфельках. – Я – жена, я – жена, я – жена! – пропела она, размахивая крошечной, чуть побольше кошелька, сумочкой. – Как здорово! Правда?
– Конечно… – не совсем уверенно отозвался Борис и принужденно улыбнулся.
Бумажка о законном браке лежала в нагрудном кармане его нового пиджака; Кира хотела было положить в сумочку, но он решительно воспротивился – вдруг потеряет – и убрал в более надежное место. Свадебный ужин тоже состоялся, как тому и положено, – на Васильевском, где Кира жила с вдо́вой матерью-учительницей и двумя младшими сестрами – в комнате узкой и тесной, как тот зеленый троллейбус, что уж пять лет ходит, битком набитый гражданами, от улицы Красной до Красной3 же площади… Его-то мама, да и он сам, понятное дело, хотели праздновать в Смольном, в их большой светлой комнате при хозяйственной части, да только не удалось достать необходимое количество пропусков для гостей – а упрямая Кира обязательно желала видеть на свадьбе целый букет из своих писклявых однокурсниц в одинаковых белых сарафанчиках с голубыми пуговицами и резиновых тапочках, заботливо натертых зубным порошком, и тоже – представьте себе – на голубых пуговичках! Они хохотали и ели, ели и хохотали, иногда спохватываясь и вспоминая, что давно не кричали «Горько!», – и тогда старинная пыльная люстра под высоким потолком звенела от их пьяненького, но дружного визга. Редкие баритончики и несмелые молодые баски приятелей Бориса безнадежно тонули в девичьем, будто галочьем гвалте – и все, неутолимо голодные, вновь жадно кидались на невиданную дотоле еду. Это, конечно, мама расстаралась: она работала на раздаче в столовой северного, «секретарского» крыла Смольного, где питались, конечно, не секретарши, а именно секретари: Горкома и Горисполкома – ну, и начальники отделов, само собой. Секретарш – тех гнали в южное крыло для «аппарата», победнее и попроще. Да и не имело это значения, а важным было то, что даже в глухое, страшное и темное время войны с белофиннами, когда в ленинградских магазинах остались только хлеб и чай, да и за теми нужно было занимать очередь с ночи, в их с мамой уютно натопленной комнате всегда стоял меж оконных рам наваристый мясной суп, лежали свертки с ароматной колбасой, сливочное масло в красивой коричневой бумаге. По воскресеньям мама заставляла юного Борю съедать по два бутерброда с красной или черной икрой – он ненавидел и ту, и другую, но столовая ложка рыбьего жира, которой обычно грозила мать в случаях его «ломания», виделась гораздо более страшной, способной отвратительным послевкусием испоганить весь сияющий радостью выходной день… Но в день свадьбы эти бутерброды, к его удивлению, разлетелись раньше всего остального. «Ребята, имейте совесть, оставьте бутербродик жениху!» – трагически взывала, помнится, какая-то смутная «Людочка» – а он, смеша всех, скривил ужасную рожу и стал отмахивался обеими руками. «Борис, – в тот же миг на плечо ему со строгой лаской легла холодная, как у статуи в Летнем, рука тещи. – Возможно, это и не мое дело, но хочу напомнить вам, что вы – действительно жених. А в старое время жениху и невесте на свадьбе хмельного вообще не давали. В интересах потомства… Ну, вы меня понимаете…». Он покраснел так, что даже жарко стало, и тут же поймал испуганный Кирочкин взгляд: она, наверное, тоже подумала о неизбежном «потомстве» и успела представить себе заспиртованного уродца из Кунсткамеры. Они тогда вместе это увидели: просто завернули за угол и натолкнулись – и ему ли не помнить, какой ужас отражался в ее глазах, когда она пулей летела из музейного зала (он – следом) и бормотала на лету: «Это все он, отец его, пьяница проклятый, – откуда еще такое могло взяться…».
Борис засопел, дальше пил только ситро – и с каждой минутой ему делалось все больше и больше не по себе, к тому же, гости начали понемногу собираться и, оставляя щедрые белые следы зубного порошка на полу, уходили шумными кампаниями – а парни еще и показывали ему за спиной девушек очень неприличные, но легко читаемые знаки, призывавшие «не робеть» и, уж конечно, «не подкачать». Но не робеть он не мог, и вовсе не был уверен, что не подкачает. Бывая раньше в гостях у сокурсников он, разумеется, как и все они, прикидывался «бывалым», скромно, но убедительно играя роль небрежно-опытного товарища, которому приелись легкие красивые победы. Роль его оказалась нетяжелой – судьба подсобила: в их коммунальной квартире в хозчасти Смольного раньше проживало семейство шофера какой-то горкомовской «шишки», и старший сын, шалопутный Санька Тараканов, имевший само собой разумевшуюся кличку, учился на врача: «выучить» детей по-настоящему, чтоб вырвались из обслуги, считалось среди простого, но много видевшего люда делом особой чести. Таракан посчитал своим долгом свысока просветить сосунка-соседа, одолжив ему как-то на ночь один из своих недоступных простым смертным медицинских учебников, снабженных вполне соцреалистическими иллюстрациями, где у хитроумно связанных и взнузданных простынями женщин, приготовленных «к малым гинекологическим операциям без хлороформирования», были педантично прописаны даже ресницы на туповато-спокойных лицах. Прячась от матери, ритмично всхрапывавшей за внушительным шкафом, Борис изучал дивную книгу с помощью не раз выручавшего и раньше фонарика в кромешной тьме одеяловой норы, изредка опасливо высовывая пылавшую голову, чтобы глотнуть свежего воздуха, а утром, вполне теоретически образованным молодым человеком, спокойно и крепко заснул на полчасика, спрятав сокровище под подушку… Было это давно, еще в школе, но плоды принесло изумительные: теперь в его бывалости никто из окружения и не думал сомневаться – ведь Борька умел при случае козырнуть такими ошеломительными подробностями, каких и представить не мог никто из действительно успевших наскоро надкусить еще зеленый запретный плод друзей – студентов Технологического института.