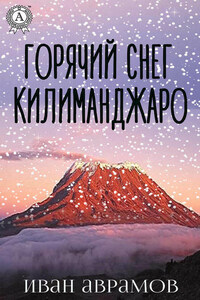Приглашение от Виктора Рябова
Передо мной – прозаическое сочинение Саши Зайцева – «Советские тексты в постсоветской редакции». Несколько часов назад я открыл эту книгу с намерением охватить одну – другую главу… И не смог остановиться! А завершив чтение, с надеждой перелистнул последнюю страничку – нет ли продолжения? Удивительное свойство творчества этого автора – за абсолютно бессюжетным повествованием, которому подходит, пожалуй, лишь определение «житие», встает напряженный, увлекательный и необычный сюжет.
Самое неблагодарное занятие – поиски аналогий с произведениями других авторов. Настоящая литература никогда ни на что не похожа. Можно лишь сказать, что для поколения постсоветского российского общества, к которому принадлежит и автор, эта штука посильнее, чем «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля для советского общества. Хотя, разумеется, Саша Зайцев не настолько юн, чтобы его житие не вобрало в себя советские годы. Вся книга пронизана тончайшей иронией в описании школьной жизни, в его долгой студенческой одиссее.
На страницах книги много пьют. Но ежели Венедикт Ерофеев питие, определяющее сознание, поэтизирует до обожествления, то персонажи Зайцева пьют в посконной неизбежности, необходимости этого процесса. Увлекательны путешествия героя. Здесь – и образы южных городов, и армейские будни. Но, пожалуй, наиболее ярко живописует автор жизнь Талды-Курганского драматического театра (а может быть, мне, как театральному режиссеру с огромным стажем, эти главы показались самыми значительными). Репетиции, премьеры, гастроли – все это сливается в калейдоскоп экзотики жития периферийного драматического театра. И, конечно, портреты… А как владеет автор умением плести мозаику из многозначительных фамилий…
Каюсь, ненавижу употребление в печати ненормативной лексики. Но Саше Зайцеву позволяю и это. У него сам художественный строй, сама форма повествования доказывают необходимость именно такого лексикона, именно этих крепких выражений. Не дай господь, «мудрая» редакторская рука заменит выражения автора на более пресные или проставит многоточия. Пропадет аромат, неповторимость зайцевских строк.
Не могу не привести примера живописи словом в этом романе. Вот продавщица гастрономического отдела Маша: «…весы у Маши были таким же инструментом, как рояль, а Маша умела на нем играть, как Лист или Ван Клиберн. Тихая музыка советской торговли, журчащая из-под полупустых прилавков как аккомпанемент хамству обслуживающего персонала». Но я уже начинаю пересказывать содержание книги, лишая читателя удовольствия самостоятельно насладиться всеми достоинствами произведения. Откройте книжку, разгадайте явные или отчасти скрытые многочисленные посвящения в строках и между ними. Не сомневаюсь, что когда вы дойдете до конца книжки, у вас будет на одного доброго друга больше!
Всего вам доброго.
Виктор Рябов, профессор РАТИ-ГИТИСа, Заслуженный деятель искусств России.
Посвящается моей няне Елизавете Арсеньевне Шибаевой
Но теперь оттенок, который окрашивает эти события, позволяет взглянуть на них по-иному.
О. де Бальзак
Интересно устроена память: прошлое и будущее она сталкивает в настоящем (…есть только миг…). Кажется, что время остановилось. Стоит себе, как этот шкаф, диван, книжные полки, письменный стол… Эрекция времени, приводящая к эякуляции – простите за биологизм —сюжетов, перемещающихся на дне сознания. Какой-то из них, как в детской игре, становится Царем Горы. И тогда прошедшее или то, что еще только должно произойти, будто выхватывается прожектором из мрака и происходит сейчас.
Комната наполняется солнечными лучами. К моей кровати тихо подходит няня. Я еще сплю. Няня гладит меня по голове, пилит слегка мою шею ребром теплой ладони, ласково приговаривая: «Зарежу порося». Я не реагирую. Тогда с меня стягивается одеяло. Это значит, что пора в школу и вызывает ответную реакцию – я дрыгаю ногами и тщетно пытаюсь вернуть одеяло на место. В коридоре зазвонил телефон. Я вскакиваю и хватаю трубку, из которой доносится возбужденная картавая речь: «Саня! Срочно! Архиважно! Промедление смерти подобно – возьмемся за оружие, друг! В наличии рогатка и самострел с оптическим прицелом. Боевая готовность № 1. Как это, кто говорит? Владимир Ильич Ленин говорит! Не узнаешь, политическая проститутка? Сам туда иди…» – телефонный звонок одноклассника и хулигана компенсирует нянины старания. Позавтракав на скорую руку, я собираю не собранный с вечера портфель и демонстративно повязываю перед зеркалом поверх белой рубашки пионерский галстук, чтобы, выйдя за дверь, скомкать его и засунуть в брючный карман вместо носового. Манипуляция производится ради бабушки. Бабушка верит в бессмертные идеалы, и мне не хочется нервировать ее без нужды (за непристойную надпись на лбу гипсового бюста вождя в школьном вестибюле из пионеров абсолютным большинством голосов пионерской организации при двух воздержавшихся меня с позором исключили). В общем, на клич пионера я реагировать перестал, о чем бабушка, конечно, не догадывается. Что поделаешь, не могу я быть всегда готов неизвестно к чему. Даже не совсем уверен, что готов к труду и обороне, хотя нормы ГТО сдал и получил из рук физрука Василия Ивановича серебряный значок и соответствующее удостоверение. Не сдавшими учениками Василий Иванович протирал пол в спортзале. Брал их за руки, за ноги и водил спинами по крашенным в салатовый цвет доскам в загрязненных местах. Воистину, «если хилый – сразу в гроб». Повязал я, значит, пионерский галстук, оглядел себя в зеркале критически – галстук мне явно не к лицу. Мимо, в направлении ванной комнаты, в одной ночной рубашке старшая сестра проходит. «Доброе утро, – говорит. «Доброе», – отвечаю и неуловимым движением задираю ей ночную рубашку аж выше одного места. Увернувшись от оплеухи, становлюсь свидетелем очаровательной девичьей стыдливости (визг, покраснение щек, некоторая агрессивность в поведении). Разобравшись таким неприглядным образом со своими еще не сформировавшимися эротическими потребностями, я выскакиваю на лестницу, кубарем выкатываюсь из подъезда и, размахивая портфелем, бегу в школу, освобождая на ходу чуть вспотевшую шею от пионерской символики.
Так просыпается большой город в лице своей маленькой несознательной частицы. Радостно ощущать в эти минуты, что утро красит не одни стены древнего Кремля, но не обделяет нежным светом и обшарпанный фасад школы, из-за угла которой Вовка Ульянов прицелился из рогатки в пышный зад учительницы географии Анны Захаровны Микоянской.
Анна Захаровна желала маршировать в ногу с научным прогрессом. Как-то явилась ей светлая мысль. И предложила Микоянская ученикам завести по толстой общей тетради и разделить их (тетради) на пятнадцать частей каждую – по количеству республик Советского Союза – и соответственно озаглавить. Далее мальчикам и девочкам предстояло вырезать из газет заметки о битвах за урожай и прочих трудовых вахтах и буднях. Ну, например, Ивановский прядильный комбинат перевыполнил намеченный план на столько-то километров пряжи, железнодорожники Гомельского депо соревнуются под девизом «Меньшим числом локомотивов перевезем больше народнохозяйственных грузов», флагман отечественного хлеборобства (виноделия) Ворошиловградский колхоз имени Котовского (Кишиневский ликеро-водочный завод) засыпал (влил) в закрома (бочки и иные емкости) Родины на столько-то тонн (гектолитров) зерна (портвейна, водки, коньяка) больше, чем взял на себя обязательств, и т.п. Заметочка аккуратно вклеивается в раздел, к которому имеет непосредственное отношение («Белорусская ССР», «Молдавская ССР», «Казахская …). Под ней обязательно указывается источник (г. «Правда», г. Советская Россия», ж. «Коммунист»…) и дата. Называться тетрадь будет «Дневником пятилетки». Анна Захаровна довела до общего сведения, что состояние (толщина) «Дневника» окажет решающее значение при выставлении оценки за год, поскольку ученики должны не только раскрашивать в контурных картах различные регионы цветными карандашами, но и четко себе представлять, что в этих регионах происходит. Педагогическому совету идея понравилась, и директор внедрил ее в учебный процесс, объявив Анне Захаровне преждевременную благодарность. Казалось, и ученики заинтересовались. Даже у Вовки Ульянова «Дневник» пух как голодающие Поволжья. Тем временем пронесся тревожный слух о массовом отравлении школьными завтраками и всеобщем поносе. Не то, чтобы были задристаны все туалеты, а ученики на каждом углу хватались за животы и стремглав неслись к унитазам – тревогу забила библиотекарша. Все без исключения библиотечные подшивки газет были либо изрезаны и разодраны в клочья, либо попросту исчезли. Что могла предположить старая женщина в условиях острейшего дефицита туалетной бумаги? Но вот, что странно: ни одна книга, ни один литературный журнал не пострадали, хотя по качеству бумаги газетам не уступали. Больше того, вырванный книжный лист, если его хорошенько скомкать, а затем разгладить, оказывался даже несколько мягче газетного. Версия отравления отпала. Ее несостоятельность подтвердили и прибывшие врачи санэпидемстанции. Но внутренний фактор неожиданно сменился внешним. В подъездах и раньше воровали газеты и журналы, случалось, что и поджигали их прямо в почтовых ящиках, но чтобы так… Уничтожение печатной продукции в окрестных домах стало принимать необратимый характер. Жильцы были вынуждены (а что делать?) выставлять дежурных по подъездам. Бдительность подписчиков принесла результаты, причем довольно неожиданные. За руку схватили не Вову Ульянова, не Леву Бронштейна, друга и почитателя Вовиных пакостей и безобразий, а отличника учебы Феликса Дзержинюка. Примкнувший к нему пионерский актив класса зазевался, стоя на шухере. Феликс сдал их всех с потрохами дознавателю в детской комнате милиции, вымаливая прощение.