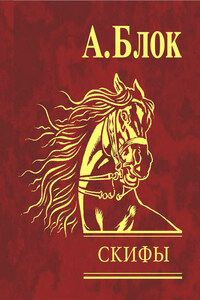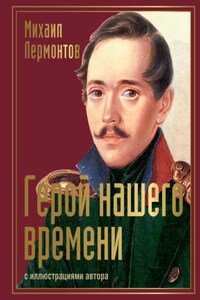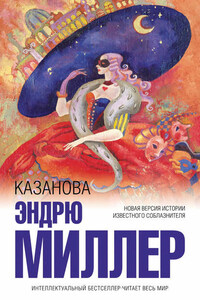«Я художник, а следовательно, не либерал», – писал Блок в мае восемнадцатого года, отвечая на одну из бесчисленных тогдашних анкет. В последних пароксизмах свободная печать (в мае прикрытая временно, в июле окончательно) обсуждала единственный вопрос: может ли все-таки интеллигенция сотрудничать с большевиками? «Может и должна», – ответил Блок в январе тремя словами; спустя четыре месяца, для неосуществившегося журнала «Печать и революция», он высказался более развернуто, но и там – по вечной своей неспособности объяснять и расшифровывать – заметил, что обосновывать этот тезис не время и не место. Художник – не либерал, вот и все.
Попробуем сделать это за него, тем более что к нашим услугам его позднейшие фельетоны, яростные дневниковые записи, письма с редкими, но драгоценными проговорками. Все это давно уже зацитировано, но требует нового осмысления – как, впрочем, и вся русская история и русская же литература: пройдя через соблазны тоталитаризма и либерализма, она в который раз получает шанс беспристрастно разобраться в себе – и, боюсь, как всегда, этим шансом не воспользуется.
В разные эпохи читатель понимает разные блоковские тексты: почти вся лирика до 1910 года прекрасно понималась в первой половине восьмидесятых, я хорошо это помню – и не только потому, что самому мне было тогда пятнадцать-семнадцать лет (самое «блоковское» время), но и потому, что времена были мистические, пусть с поправкой на бесконечную советскую пошлость. Крах империи, ее сумерки – всегда великолепное время, которое одно способно эту империю оправдать; я помню атмосферу той бесконечно поэтической эпохи, когда вдруг стали очень сильно писать лучшие наши авторы. Неизменно чуткий Окуджава пережил вторую молодость, написав в 1982–1984 годах не меньше тридцати превосходных песен; прогремел молодой Щербаков, в узких кругах стал известен Гандлевский. Тогда же – а вовсе не в начале перестройки – Захаров снял «Свифта», бесспорно самую глубокую свою картину, а Абуладзе на «Грузия-фильме» в обстановке строгой секретности закончил «Покаяние»; и то, и другое легло на полку, но оба автора знали, что это ненадолго. Я хорошо помню тогдашнюю полубогемную Москву, пустые сумеречные коридоры Школы юного журналиста при МГУ, где широко ходили ксерокопии самых разных сочинений – от эзотерики до «Лолиты»; помню школьные и студенческие театры-студии с непризнанными гениями во главе (очки, свитер, странности), помню невыносимое, почти эротическое напряжение той жизни – предвкушение, предчувствие, истончение ткани бытия, сквозь которую уже просвечивает несказанное. Всякая тогдашняя осень с ее сырым, рыжим и серым простором и гудками далеких паровозов (я жил и живу на Мосфильмовской, недалеко от железнодорожных путей), всякая весна с ее «синей глубью» – никогда потом я не видел неба такого цвета, – все было полно великих и, в сущности, неисполнимых обещаний; и как же тогда читался Блок! Тогда я мог любое его стихотворение из первого тома синего двухтомника (Орлов – составитель, 1955) продолжить с любого места. Моя жена, тогда новосибирская старшеклассница, младше меня на год, в то же самое лето восемьдесят третьего года впервые прочла «Короля на площади» – и оба мы, ничего друг о друге не зная, лучше всего запомнили самых таинственных ее персонажей: «Слухи, маленькие, красные, шныряют в густой толпе».
Трудно сегодня представить старшеклассника, читающего Блока, – не легче, пожалуй, чем представить тогдашнего выпускника, нюхающего кокаин. Но у нас был свой кокаин, не хуже вашего, и даже с менее опасными последствиями. «Король на площади» был тогда про нас – он сидел над городом, дряхлый, весь в трещинах, и все давно догадались, что он каменный. И, разумеется, ждали кораблей, которые придут и принесут что-то такое, такое, такое…
Вспомним едва ли не самое знаменитое стихотворение первой половины века: даже сейчас, когда чтение Блока приносит мне прежде всего боль – с такой болью отдирается от раны присохший бинт, – я вздрагиваю от наслаждения при мысли, что мне предстоит перепечатать этот текст:
«Ты помнишь: в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре – серых. И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас… Мир стал заманчивей и шире. Но вдруг – суда уплыли прочь. Нам было видно: все четыре зарылись в океан и в ночь. И вновь тоскливо стало море, маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдали сигнал.
Как мало в этой жизни надо нам, детям, – и тебе, и мне! Ведь сердце радоваться радо и самой малой новизне. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран – и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман».
Это хрестоматийный текст (особенно всех достала, я думаю, «пылинка дальних стран», которая попала в тысячу заголовков, светящихся розовой пионерской романтикой), – но истинный его смысл страшен. Трагедия-то в том, что стихи написаны от лица ребенка, живущего в Турине, где Блок незадолго до первой мировой войны увидел те самые военные суда, внезапно зашедшие в мирную, затхлую, зеленую бухту. Эти «четыре серых» были предвестниками конца света, по крайней мере – конца Европы. Но что ты будешь делать – живет ребенок в маленьком скучном городе, где только и счастья, что приход нового корабля; он ждет кораблей, как герои «Короля на площади», и тут, о радость, они являются! Господи, воистину – как мало в этой жизни надо нам, детям; ведь дети всегда кричат: «Ура, война!» Им совершенно невдомек, что они погибнут первыми. Самое светлое, самое музыкальное стихотворение Блока написано о крушении мира: думаю, что, заканчивая этот текст, он уже прекрасно понимал, чему радовался. «Сердце радоваться радо и самой малой новизне» – даже такой, как гибель, и может быть, такой – в особенности. Вот чем оплачена музыка этих стихов – и вот что всегда выплывает из цветного тумана, когда в него вглядываются дети, уставшие от обыденности.
Мы тоже вглядывались и тоже ждали; и к нам выплыло.
К нам выплыло очередное упрощение и оголение жизни, и сведение ее к выживанию, и пожары на окраинах, и обнищание интеллигенции, грозящее полным ее исчезновением, и бессмысленные войны, и политическая невнятица, и торжество идиотов, и две русских революции, которые всегда ходят парами, – то есть революция и контрреволюция, если называть вещи своими именами; корабли оказались не странствующими, а военными и торговыми, и торговые наполнены были такой второсортной дрянью, выдаваемой за последний писк западной одежной, культурной и философской моды, что многих из нас стошнило на пирс. Русский двадцатый век оказался симметричен относительно середины: первые и последние его двадцатилетия были одинаково бурны – и одинаково позорны. Можно было по-блоковски повторить «Но не эти дни мы звали, а грядущие века»; но это не спасало от разочарования и, рискну сказать, перерождения. Жить стоит только во времена перемен, а точнее – в переходные, промежуточные месяцы, когда история застывает в равновесии, в неопределенности. Кроме этих точек перехода, все в моей жизни было неинтересно.