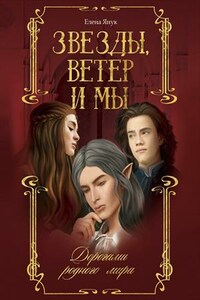Первые дни тянулись бесконечно долго, но потом время как-то вильнуло хвостом, скакнуло стрелками по циферблату, и оказалось, что Любу уже выписывают. И вдруг палата, лестница, коридор показались такими привычными, как будто она провела здесь не пять дней, а все двадцать семь лет своей жизни. Сестра выдала куртку и ботинки – совершенно забытые, словно и не её вещи. Лечащий врач улыбнулась ободряюще, но уже как-то отстранённо, выписав Любу не только из отделения микрохирургии глаза, но и из того мирка, в котором сама она оставалась энергичной доброй повелительницей близоруких и дальнозорких пациентов. А Любе предстояло стартовать в новую жизнь, в новый огромный мир.
Собирая вещи, Люба вспоминала, как испугалась, когда ей предложили лечь в больницу на обследование, а потом и на операцию. Она вообще боялась медучреждений, в местную поликлинику обращалась, только когда было совсем уже худо, и нужен был больничный, никогда не ездила в санатории. А тут – в больницу! Но другой страх перевесил. Страх безграничной и беспросветной, безнадежной и бесцветной тьмы, в которой она, вероятно, когда-то в будущем, могла оказаться – страх возможной слепоты. Этот страх подкрался к ней незаметно, ещё в детстве, и с тех пор не отпускал, настигая иногда ночными кошмарами или случайными телевизионными передачами о людях, лишившихся зрения. Началось всё с бабушки, которая говорила: «Включи свет, а то совсем ослепнешь» или «Выпрямись! Что ты носом пишешь, совсем ослепнуть хочешь?» или «Сколько можно сидеть перед телевизором? Будешь потом слепая всю жизнь ходить!» Бабушка и сама носила очки с толстыми стеклами, и вовсе, конечно, не хотела напугать внучку, а только предостеречь. Но когда годам к двенадцати Люба вдруг заметила, что дом напротив, черты лица учительницы, стоящей у доски, буквы рекламных вывесок на улице теряют четкость, расплываются в легкой, но непреодолимой глазом дымке, она испугалась, решив, что слепнет.
«Говорила я, не пиши носом! Не читай в темноте! Не сиди перед телевизором! Вот доигралась теперь!» – подлила бабушка масла в огонь. Мама отстояла очередь в регистратуру детской поликлиники и получила номерок к окулисту. Ждать приема надо было две недели, и этого времени Любе как раз хватило, чтобы погрузиться в мрачное, хотя и не лишенное трагической романтики отчаяние. Она уже видела себя одинокой, поседевшей женщиной с бесцветным лицом, передвигающейся на ощупь по полупустой мрачной квартире и прислушивающейся ревниво к молодым веселым голосам, долетающим с улицы. Люба начала тренироваться: ходила по дому, закрыв глаза, и училась угадывать сюжет фильма по звукам, не глядя на экран. Перед зеркалом она репетировала, как спросит у врача: «Сколько мне ещё осталось?» так, чтобы тускнеющий взгляд оставался преисполненным достоинства и долготерпения.
Но окулист, немолодая и немногословная женщина, привычно проделав с Любой ряд нестрашных и небольных манипуляций, равнодушным голосом рассказала маме, где и как заказать ребёнку очки. Открыв медицинскую карту, она записала размашистым трудночитаемым медицинским почерком, что трагическая романтика отменяется, а вместо неё назначаются какие-то капли и упражнения.
Жизнь потекла почти по-прежнему. Люба быстро привыкла к очкам, в минуты смущения научилась поправлять их легким летящим взмахом руки и уже не представляла своего отражения в зеркале без этого постоянного дополнения. Очки дарили ощущение защищённости – неоправданное, но приятное. В пятнадцать лет Люба поменяла очки на более сильные, потеряв ещё две единицы, к двадцати трем она снова почувствовала недостаточность диоптрий, а в следующий визит к окулисту ей предложили лечь на обследование.
Люба приехала в больницу, ожидая почему-то непременных страшных испытаний, жалея себя и свою молодую, наверняка почти уже загубленную ни за что жизнь. Она предвидела, что обследование выявит в ней какие-нибудь чудовищные необратимые патологии, предчувствовала, что рука хирурга, занесенная над её несчастным, доверчиво распахнутым серым глазом, непременно дрогнет, лишив её не только зрения, но и привлекательности.
На отделении, несмотря на то, что на улице стоял конец безрадостного серого и сырого марта, царило почему-то праздничное настроение. Любу встретили там, словно давно ждали, окружили заботой и вниманием. Лечащая врач, молодая, энергичная дама с удивительно коротко остриженными волосами, лучилась ожиданием предстоящей Любе операции, словно готовилась вручить ей ключи от счастливого будущего. Медсёстры разделяли радостное ожидание, ласково улыбались и кивали, заглядывая в назначения и готовя её к процедурам.
Уже на второй день и сама Люба прониклась царящим на отделении радостным предвкушением. Освобожденная от рабочих и бытовых забот, она валялась на кровати, плавая в безмятежных мечтах о новой зоркой жизни. Там её ждало всё до сих пор упущенное и неохваченное по вине недостаточности зрения. Разрушив барьер между нею и миром, устранив эту преграду из модного пластика, которую она вот уже столько лет неизменно таскала на лице, Люба готовилась измениться кардинально. Что помешает ей отныне быть раскованной и уверенной в себе, сделать новую стрижку – не такую радикальную, конечно, как у лечащей дамы-врача, но тем не менее – и прикупить что-нибудь новое из одежды. Ближе к вечеру, после ужина, Люба погружалась в мечты о личной жизни. Она представляла себе, как прямо в первый же день, когда она, похорошевшая и уже без очков, выйдет на работу, то прямо в дверях столкнётся с каким-нибудь ранее не замеченным ею по причине плохого зрения, симпатичным молодым человеком, кивнёт и улыбнётся ему. И закрутится роман с неожиданными букетами на рабочем столе на зависть коллегам и с поцелуями без этого дурацкого и неловкого предварительного избавления от пластиковой конструкции на лице. По утрам после завтрака Люба, сняв очки, подолгу смотрела из больничного окна на мутные дома, пролетающие пятна машин и ползущие невнятные очертания человеческих бесполых фигур. Скоро эта пелена спадёт, и мир явит ей себя во всей полноте и дивных подробностях, распахнётся перед ней во всём многообразии возможностей.
Операция прошла успешно. Коротко стриженая врач удовлетворенно кивнула: «Ну вот, Люба, очки вам больше не понадобятся. Привыкайте!» Получив выписку и собрав вещи, Люба долго не могла решиться покинуть гостеприимное отделение и, спустившись на первый этаж, всё поправляла перед зеркалом шапку и обернутый вокруг шеи платок, сдерживая ненужное больше взлетающее к виску движение руки.
Наконец, она вышла за дверь. Больница стояла посреди сквера, и Любу сразу обступили темные стволы деревьев, тянущие вверх огромное количество веток и веточек, невероятно четко прорисованных на фоне промозглого светлого неба. Люба постояла, любуясь открывшейся перед ней картиной, привыкая к холодному весеннему воздуху. Ей всё ещё казалось, что в палате она провела несколько лет, а не чуть меньше недели. Через проходную Люба вышла на улицу, свернула и не торопясь пошла в сторону метро. Она видела всё. Номерные знаки машин, вывески на этой и даже на той стороне улицы, обстановку квартир за неплотно задернутыми шторами, кошку в подворотне, голубей на карнизе. Она различала выражения лиц других пешеходов, детали их одежды, их сумки и обувь. Мир с наведенной на него резкостью ошеломлял и утомлял. Добравшись до дома, Люба почувствовала, что ужасно устала. Но это было, конечно, просто с непривычки, просто она не восстановилась ещё после операции.