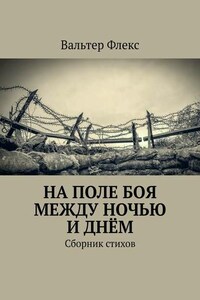«Странник между двумя мирами»
Случай на войне
Посвящается памяти моего дорогого друга
Эрнста Вурхе,
Добровольца 3-го нижнесилезского пех. полка №50,
Лейтенанта 3-го нижнеэльзасского пех. полка №138
«На поэзии основывается устойчивость престолов», Гнейзенау
Бурная ночь царила ранней весной в израненных войной лиственных лесах французской Лотарингии, там, где град пуль за долгие месяцы успел искалечить ствол каждого дерева. Я, будучи добровольцем, лежал на посту, как и сотню ночей до этого, на лесной опушке и смотрел обожженными ветром глазами на мерцание грозовой ночи, сквозь которую беспокойные фонари рыскали над французскими и немецкими окопами. Шум ночной грозы нарастал надо мной ударами прибоя. Чужие голоса наполнили дрожащий воздух. Над шипами шлемов и стволами винтовок раздался режущий ухо свист, резкий и стенающий, и высоко над полчищами противников, которые скрывались друг от друга в темноте, на север с пронзительным криком пролетела стая мигрирующих диких гусей.
Мерцающий и угасающий свет блуждающих по небу сигнальных ракет снова и снова внезапно вспыхивал, освещая комковатые очертания сидящих на корточках фигур людей, укутанных, так же, как и я, в шинели и брезент. Цепочка дозорных прижалась к впадинам в земле и известковым ямам перед нашими проволочными заграждениями. Эта цепь часовых нашего силезского полка тянулась от леса Буа-де-Шевалье (Bois des Chevaliers) до Буа-де-Верин (Bois de Vérines), и странствующая рать диких гусей, словно призрак, пролетела над всеми нами. Не различая в темноте строк, которые наезжали друг на друга, я написал на клочке бумаги несколько строф:
Летит гусей большая рать,
Кричат шальные птицы.
Не спать, стоять! Пора понять:
Повсюду смерть таится.
Эскадра гордо мчит вперёд,
Весь мир окутан тьмою.
Лишь рассветет, нас позовёт
Звук яростного боя.
Поторопись, на север мчись
На крыльях цвета стали!
Мы устремляем взоры ввысь,
Но что же станет с нами?
Мы, как и вы, – стальная рать,
Должны свой край оставить.
И если не придём опять,
Почтите нашу память!
Пока я писал это в Буа-де-Шевалье, в лесу Буа-де-Верин находился на посту двадцатилетний студент-теолог, такой же доброволец, как и я. Тогда мы еще ничего не знали друг о друге. Однако, когда он, месяцы спустя, нашел эти стихи в моих военных дневниках, он отчетливо вспомнил эту ночь и стаю странствующих гусей, которая пронеслась тогда над нами. Мы оба смотрели на нее, думая об одном и том же. И нам обоим в этот самый час явился пеший связной с приказом объявиться в полночь перед полковой канцелярией готовыми к маршу. Уставшим, но все еще на удивление ясным взором мы на спуске созерцали меланхоличную красоту серых и голых склонов и впадин, чья известковая бледность в лунном свете казалась мертвенной, чуждой и тяжелой, и обозревали серое, мрачное одиночество разрушенных обстрелами и покинутых каменных хижин…
В полковой канцелярии мы узнали, что нас на заре вместе с двадцатью другими добровольцами направят в Германию, чтобы мы прошли офицерскую подготовку в позенском лагере на Варте.
На крутой деревенской улице, между разрушенной гранатами церковью и домом пастора с его солдатскими могилами – здесь на заре следующего дня наш небольшой отряд начал свой путь. Одновременно это место должен был покинуть отряд профессиональных убийц, которые оставляли воинскую часть, чтобы найти себе применение на родине. Когда мы стройными рядами стояли перед домом пастора, вышел майор и выкрикнул нам издалека: «Это вы мясники, парни?», и ему отозвался целый хор как оскорбленных, так и радостных голосов: «Нет, господин майор, мы кандидаты в офицеры!» Пока майор, пройдя мимо нашей серой стайки, что-то сердито бормоча, продолжал искать своих мясников, мое внимание внезапно привлекла пара прекрасных светло-серых глаз. Это были глаза человека, который стоял рядом со мной, и они были до краев полны радостного смеха. Мы посмотрели друг на друга и познакомились, радуясь одному из тех маленьких безобидно-забавных происшествий, которыми была богата наша жизнь добровольцев. Удивительно, какие ясные глаза у этого юноши! – подумал я, и, как только полковой писарь вызвал его на перекличке, отметил про себя его имя. «Эрнст Вурхе». «Здесь!» Ну, подумал я, как прекрасно, что у нас с тобой один путь…
Несколько часов спустя наша небольшая группа спустилась с высот Кот Лорен (Côtes Lorraines), которые были омыты потоками крови героев, с Атоншатель (Hâtonchatel) в направлении Виньёль (Vigneulles). Крутой спуск и свежий воздух, напоенный росой и солнцем, заставили нас, даже не замечая этого, поднять головы, и вскоре над нашей серой стайкой кружила и развевалась, подобно яркому веселому флагу, песня.
«Вперед, как воздух свеж и чист!
Нельзя сидеть без дела.
Нам самый яркий солнца луч
Сегодня дарит небо!»
Как давно не пели эту песню! Кто начал ее петь? У юного студента рядом со мной голос был так же красив и чист, как и его глаза. Кто так славно поет, с тем хорошо будет поболтать, подумалось мне, пока он беззаботно предавался только что пробудившейся в нем радости от путешествия, изливая ее в своей песне…
Все круче и круче спускающаяся дорога упиралась в широкую лотарингскую равнину. На резком повороте она внезапно заставила нас обратить свой взгляд назад и наверх, туда, где в утренней заре и тумане купалась церковь Атоншатель. Из ее готического убранства молодое солнце просачивалось ввысь, к разрушенным обстрелами домам, стоявшим вокруг, и к горному кладбищу, через серые стены которого стремилась наружу жизнь. Она пробивалась наружу кустами свежей зелени с сотнями тонких веточек, среди которых серебрилась дереза и висели набухающие сережки лещины. Чем ниже мы спускались, тем выше и величественнее поднимались над долиной и мокрыми от росы виноградными склонами, упиваясь все более ярким солнцем, руины церкви Атоншатель. Воистину, это была божья крепость, перед которой вверх и вниз простиралась плодородная земля, подобно тому, как ковер для молитвы простирается перед толпами паломников.
Возможно, без двадцатилетнего товарища рядом со мной все представилось бы мне совершенно иначе. Он уже не пел, а полностью погрузился в ходьбу и созерцание. Сочетающиеся в нем упрямство и покорность, его изящество только украшали осанку подтянутого тела юноши, его стройность и силу, гордо запрокинутый затылок и своенравную красоту рта и подбородка. Его походка представляла собой пружинящую, самодостаточную и непринужденно приводимую в движение внутреннюю силу. У него была манера ходьбы, которую принято называть «поступью» – это была спокойная и гордая поступь, которая в часы опасности становилась даже надменной. Походка этого человека могла быть игрой, борьбой или богослужением, в зависимости от часа. Она была благоговением и радостью. Когда статный, прекрасный человек в поношенном сером мундире подобно паломнику спускался с горы, его ясные серые глаза были полны блеска и стремления к цели, и он всем своим обликом напоминал Заратустру, спускающегося с вершин, или странника Гете. Солнце играло в мелкой известковой пыли, которую поднимали его и наши ноги, и казалось, что светлые камни горной дороги звенели у него под подошвами…