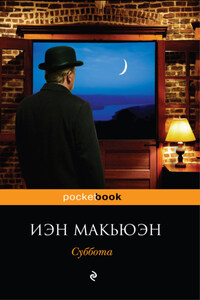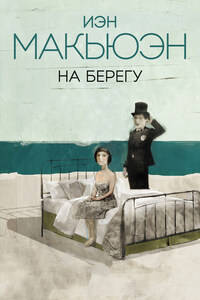Задолго до рассвета Генри Пероун, нейрохирург, просыпается, но это необычное пробуждение. Он открывает глаза уже после того, как отбросил одеяло, а возможно, и после того, как слитным привычным усилием поднялся с постели: он не помнит, в какой именно момент проснулся, да это и не важно. Прежде с ним такого не случалось, но он не встревожен, даже не удивлен: движения его легки, каждое доставляет радость, мышцы ног и спины приятно напряжены. Встает у кровати обнаженный – он всегда ложится спать голым, – ощущая прикосновение воздуха к коже, размеренное сонное дыхание жены и холодок зимней ночи; все эти ощущения ему приятны. Часы на тумбочке показывают 3.45. Он не понимает, что его разбудило: мочевой пузырь не лопается, кошмаров он сегодня не видел, а житейские проблемы и миропорядок как таковой его мало волнуют. Стоит во тьме, словно материализовавшись из пустоты, готовый к действию, ничем не обремененный. Несмотря на ранний час и трудный день накануне, он не чувствует усталости и совесть его спокойна. В голове ни единой мысли, лишь нечаянная бодрящая свежесть. Генри беспричинно, бесцельно направляется к ближайшему окну, шагая легко и размашисто, так что возникает подозрение: а вдруг он лунатик? Или все это сон? Если он все еще спит, очень жаль: грезы его не интересуют, явь таит куда больше возможностей. Но нет, он уверен, что проснулся, и он в здравом уме, ибо только трезвый рассудок способен провести грань между сном и явью.
Спальня огромна и почти пуста. Генри движется как в немом кино; мелькает секундное сожаление о том, что это ненадолго и скоро пройдет. Встает у окна, осторожно, стараясь не разбудить Розалинд, раздвигает деревянные ставни. Он заботится не столько о ней, сколько о себе: придется объяснять ей, зачем встал, а момент будет упущен. Отодвигает вторую ставню – она складывается гармошкой – и приподнимает раму. Окно очень высокое, но благодаря свинцовому противовесу рама уходит вверх легко. Морозный воздух обжигает кожу, февраль все-таки, но Генри холода не боится. С высоты второго этажа он смотрит в ночь: залитый матово-белым сиянием город, остовы деревьев в сквере, внизу – черный частокол ограды. За окном один-два градуса мороза, и воздух чист. Поверх уличных огней видны звезды – над ампирным фасадом, что через площадь, еще горят остатки созвездий. Этот классический фасад – новодел, реконструкция: от немецких бомбежек району Фицровия тоже досталось. Сразу за ним – башня почтамта: канцелярски-унылая днем, ночью, умело подсвеченная, она бодро напоминает о годах оптимизма.
А сейчас годы чего? Неразберихи и страха, порой сам себе отвечает Генри, когда в еженедельной круговерти ему случится над этим задуматься. Но не сейчас. Сейчас он подается вперед, опираясь о подоконник: простор и четкость линий восхищают его. Зрение обострено до предела. Он видит слабый слюдяной блеск на тротуаре – застывший голубиный помет, на расстоянии он так же радует глаз, как свежевыпавший снег. Ему приятна симметрия черных чугунных прутьев ограды, их мрачных теней и решеток водостока. Переполненные урны напоминают скорее об изобилии, а не о грязи, пустые скамейки в парке ждут не дождутся обычных своих седоков – жизнерадостных клерков, вышедших на обеденный перерыв, студентов из индийского общежития, листающих толстые учебники, тихих и буйных влюбленных, угрюмых наркоторговцев и ту полоумную старуху, что часами кричит: «Пошли вон! Пошли вон!» – протяжно и сипло, как хищная болотная птица.
Застыв у окна этаким невосприимчивым к холоду мраморным изваянием, он смотрит на Шарлотт-стрит, на теряющийся вдали ряд разномастных фасадов с резкими зигзагами крыш и думает о том, что этот город – на самом деле совершенная конструкция, шедевр природы: миллионы существ лепятся к наслоениям цивилизации, как на коралловом рифе, спят, работают, развлекаются; при этом большинство из них действуют слаженно, заботясь о функционировании системы в целом. Взять хотя бы ту часть города, где обитает сам Пероун. Триумф соразмерных пропорций; в центре безупречного квадрата площади, разбитой самим Робертом Адамом, идеально круглый парк, мечта восемнадцатого века в современнейшем обрамлении: сверху – сияние фонарей, снизу – оптоволоконные кабели, по трубам струится свежая вода, а нечистоты мигом уносятся прочь.
Привыкший анализировать собственные ощущения, он задумывается, чем вызвана столь длительная и неуместная эйфория. Может, пока он спал, на молекулярном уровне произошел химический сбой – включились допаминовые рецепторы, активируя цепную реакцию на внутриклеточном уровне; или все оттого, что сегодня суббота, или просто сказывается переутомление? Он и правда вымотался к концу недели. Вернулся в пустой дом и лег в ванну с книгой, радуясь, что ни с кем не надо разговаривать. Начитанная, и даже чересчур, дочка Дейзи прислала ему биографию Дарвина, имеющую какое-то отношение к роману Конрада, который он тоже обещал прочесть, но еще не открывал: мореплавание, даже в виде назидательных историй, его не интересует. Уже несколько лет Дейзи пытается исправить его, как она считает, вопиющее невежество: рекомендует ему книги, упрекает за дурной вкус и нечуткость к художествам. Отчасти она права: из школы – прямиком в медицинский институт, рабский труд интерна, затем – нейрохирургия вперемежку с судорожным, урывками, воспитанием детей… словом, лет пятнадцать он вовсе не открывал книг, разве что медицинские справочники. С другой стороны, смертей и страданий, мужества и отчаяния он сам повидал столько, что хватило бы на дюжину литератур. Но он послушно читает книги из ее списка: дочь уже совсем взрослая, живет в пригороде Парижа, видятся они раз в полгода, и книги помогают ему поддерживать с ней связь. Кстати, она приезжает сегодня вечером – вот и еще один повод для эйфории.