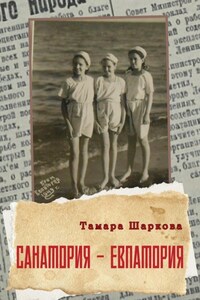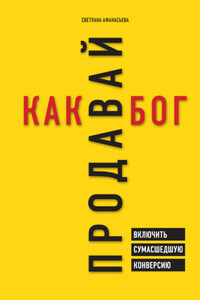Мы все часто, наверное, задумываемся, каково жить в мире, когда ты совершенно другой? Я, по крайней мере, точно задумывалась.
Потому что сама являлась таким человеком.
Нет, конечно, есть и те, кто на меня похож, как и те, кто с пониманием и дружелюбием ко мне относится, но большинство составляющих окружение людей живут совсем иначе. Везде я чужая. Мы существуем в непохожих друг на друга вселенных, полных своих устоев и правил. Мне нравится жить в своей, но все смотрят на меня как на несчастную жертву.
Я – дочь иммигрантки и англичанина, мусульманка, живущая в Штатах. И в этом всё дело.
– Бисмилляхи рахмани рахим, – тихо произнесла я почти себе под нос.
Именно с этих слов мусульмане, как это положено, начинают употребление пищи. Это вроде как вариант молитвы, которую христиане произносят за столом, взявшись за руки. Так мы благодарим Бога за еду. Считается, что любая трапеза, проходящая без этих слов в начале, проходит вместе с сидящим и уплетающим за обе щеки еду Сатаной. Но стоит тебе произнести эту фразу, как он громко и смачно блюёт всё, что успел проглотить и снова остаётся голодным. Меня в детстве это всегда смешило, и я громко кричала в пустоту: «Так тебе и надо!».
В общем, и наш сегодняшний завтрак, как и всегда, начался именно с этих слов.
У меня совсем не было аппетита, но дабы подкрепиться перед тяжёлым и стрессовым днём, я насильно запихивала в рот кусочек катаефа1, испечённого мамой ещё в шесть утра. Наверняка мой невесёлый вид заметила вся моя семья, раз папа поглядывал в мою сторону целых полчаса, а потом вдруг начал:
– Всё в порядке? Выглядишь задумчивой. Чересчур задумчивой.
– Скорее всего, просто небольшое волнение по поводу новой школы, – ответила за меня мама, стоя у плиты и продолжая готовку.
Я промолчала: всё и так было ясно.
С громким шумом на кухню вдруг влетел двенадцатилетний мальчишка – единственный ребёнок на всём белом свете, которого я искренне любила. Каштановые волосы, которые достались ему от папы, торчали во все стороны, как бы ведая о том, что их обладатель ванную комнату ещё не посещал. Мальчик метнулся к холодильнику, только появившись на кухне, и достал коробку молока.
– Кани, садись за стол и позавтракай как все мы, – недовольно протянула мама. – И скажи пару ободряющих слов своей сестре.
Кани устремил взгляд своих небесно-голубых глаз на меня и улыбнулся самой успокаивающей улыбкой на свете.
– Всё будет в шоколаде, сестрёнка, – подбадривающе произнёс он громко, словно читая стихотворение в переполненном зале. – Я уверен, что ты волнуешься зря.
– Я не волнуюсь, – запротестовала я, нагло пытаясь обмануть саму себя. – Возможно, только немного.
Мама взглянула на чёрный шарф, обвивающий мою голову и шею, и ей всё стало понятно за считанные секунды.
Да, признаваться я не хотела ни в какую, но волнение моё было вызвано именно вот этой вот тканью, закрывающей мои волосы от чужих глаз. Я понятия не имела, как примут меня новые одноклассники, как отреагируют учителя и все остальные злые американские подростки, и оттого напрягалась при любой мысли о том, как я вхожу в здание школы и тут же становлюсь жертвой десятка любопытных глаз.
Хотя нет, я прекрасно знаю, как они отреагируют.
«Если решишь самоликвидироваться, делай это подальше от нас». Потом последует смех, будто это действительно звучит смешно.
Или немного иначе. Например, «Из каких ты террористов? Афганских? Или иракских?».
Вот что они, скорее всего, скажут.
– Адиля, – начал папа осторожно, заметив, как мы с мамой многозначительно переглядываемся, – может ей как-то иначе завязать платок? Как-то более незаметно. Словно это простое украшение или женский аксессуар.
Мама на обращение к ней лишь набрала в лёгкие побольше воздуха, но промолчала. Вероятно, ей казалось, я способна сама отвечать. По её лицу я даже успела решить, что она кивнёт, согласившись со своим мужем.
Но вот чему меня всю жизнь учили, так это тому, что я достаточно взрослая, чтобы самой решать, как распоряжаться своей внешностью. Так что молчание и смирение было не про меня.
– Пап, я не хочу его снимать или надевать как-то иначе, – сказала я нарочито серьёзным тоном. – Не хочу изменять своей религии из-за кучки дураков.
Мама взглянула на меня почти с гордостью после этих слов, и я тоже почувствовала гордость за саму себя. И всё же, она, видно, могла и согласиться с папой, если бы я не настояла на своём.
Никто никогда не заставлял меня надевать хиджаб2. Но как же велика проблема, которая исходит от тех, кто не верит этому. Многие с пеной у рта, стоя с плакатами с многозначительно громкими возгласами по типу «Нет исламу в Америке!» или «Угнетение прав женщин в мусульманской религии», любят вопить: «У них нет никаких прав! Все эти тряпки на них – желание их отцов и мужей, а если они не соглашаются, их жестоко избивают в их домах!». Ты отвечаешь: «Я надела платок с любовью и по собственному желанию, даже зная, на какие риски иду». Но никто к тебе не прислушивается. Все хотят оставаться при своём. Всем всё равно на твою правду.
Вот я и научилась помалкивать, никому ничего не доказывая.
Впервые я примерила на голову платок в возрасте пятнадцати лет, очарованная знакомыми девушками в хиджабах. Мне нравилось то, как загадочно они выглядели, как грациозно ступали по земле, какой от них веяло приятной энергией. Они казались мне настолько прекрасными, что я невольно почему-то сравнивала их с ангелами – со светлыми и чистыми существами.
Я, как и все, конечно же, ходила в школу, смотрела на своих сверстниц и не могла себе и представить, каково носить короткие юбки или маечки. Многие из них надевали короткие шорты с колготками в сетку вместе с топиками, открывающими их животы. Кто-то носил облегающие джинсы, при этом никак не прикрывая места, которые я не представляла возможным оставлять на виду. Я же напяливала на себя широкую одежду, висящую на мне как на тоненькой веточке или манекене, который оказался в два раза меньше накинутой на него одежды. Носила широкие джинсы, сверху – рубашки или толстовки, доходившие почти до самых колен, а на голове, конечно же, длинный шарф, которым я закрывала волосы, откидывая свободные края на плечи. В общем, на фоне своих одноклассниц я всегда казалась самой настоящей монашкой.