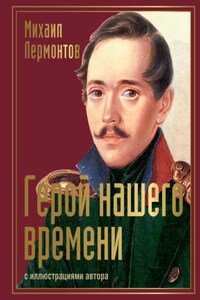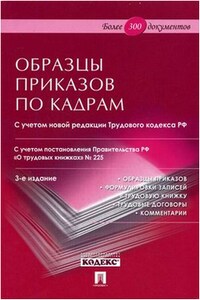Это было лет двадцать пять назад. Я служил чиновником особых поручений при м-м военном губернаторе. Однажды я получил от него повестку немедленно явиться к нему. Я поехал и застал губернатора в сильно раздраженном состоянии.
– Поезжайте сейчас в острог, – начал он сердитым голосом, – там содержится отставной капитан Рухнев, скажите ему от моего имени, что если он еще раз позволит себе шутки в сношениях с начальствующими лицами, так я посажу его в одиночное заключение!
И с этими словами губернатор подал мне данное капитаном Рухневым местному полицеймейстеру объяснение, которое было такого рода: «На предъявленное мне вашим высокородием взыскание имею честь объяснить, что оное взыскание я признаю вполне законным; но удовлетворить его затрудняюсь, потому что, как известно это и вашему высокородию, имею единственное только благоприобретенное состояние – 4-й номер в м-м тюремном замке, который, если ваше высокородие найдете это законным, предоставляю продать с аукциона для уплаты моего долга или предоставить оный и без торгов во владение г. кредитора, каковый номер он может занять, когда только пожелает!»
– Пугните его хорошенько и напомните ему, что я острот в службе не люблю! – заключил губернатор.
Я поехал. Мне давно хотелось посмотреть на Рухнева и побеседовать с ним. По слухам, он был человек умный, большой говорун и ни перед законом, ни перед своей совестью страха не ведавший. Караульный унтер-офицер провел меня к нему в номер. При входе моем Рухнев, окинув меня с некоторым удивлением глазами, вежливо поклонился мне. Я сказал ему свое звание и фамилию. На губах Рухнева пробежало что-то вроде усмешки. Я объяснил ему, в чем состояло мое поручение. Тут Рухнев явно уже усмехнулся и, пригласив меня сесть, сам тоже опустился на свое кресло. Видимо, что он пообжился и пообзавелся в своем номере: у него был письменный стол, на котором стояли чернильница, счеты, лежала засаленная колода карт, а около постели лежала огромная датская собака. Рухнев, заметив, что я осматриваю его номер, поспешил сказать:
– Я надеюсь, что вы нашему свирепому начальнику губернии не опишете подробно моего помещения: для заключенного в этом только и отрада!
– Нет, не опишу, – отвечал я.
Рухнев взял меня за руку и крепко пожал ее. По-видимому, ему было лет около сорока. Одежда на нем была не арестантская и состояла из нанкового казакина, на котором висел даже какой-то крестик, и из широких черных, с красным кантом, шаровар. Он был полноват, небольшого роста, с выдвинутыми, как у рака, вперед глазами, которые он закрывал очками; волосы и усы имел подстриженными и вообще в лице своем являл более дерзкое, чем умное выражение.
– Вы изволите говорить, что начальник губернии велел мне напомнить, что он не любит в службе шуток, – заговорил он. – Помню-с это, очень хорошо помню, потому что он выгнал даже меня из службы за мою шутливость.
– За одну только шутливость? – спросил я.
– Да-с!.. – подтвердил Рухнев и, заметив во мне любопытство, он продолжал: – Дело происходило таким манером: я служил исправником, и не по выборам, а по личному назначению самого начальника губернии; сверх того, за мою распорядительность мне, опять-таки лично им же, поручено было смотреть за благочинием и благоустройством присутственных мест. Смотрю я за всем этим: только раз зимой в сени присутственных мест затесалась ворона и, вероятно, перепугавшись и удивившись, где она очутилась, начала метаться по окнам и перебила все стекла. Что тут прикажете делать?.. Медлить нельзя было, снежищу наваливало каждое утро в сени по колено!.. Я велел стекла вставить и доношу губернскому правлению, которое тогда заведывало строительною частию, что, к великому прискорбию, в здание присутственных мест влетела ворона и, по глупому своему птичьему разуму, перебила все стекла, каковые мною уже заменены новыми и вместе с тем просил распоряжения о возврате мне израсходованной мною на сей предмет суммы. Губернское правление, получив этот рапорт, вошло в такого рода рассуждение, что так как влетение и разбитие стекол вороною показывает явную небрежность со стороны лиц, смотрению которых непосредственно подлежат присутственные места, то израсходованную сумму возложить на виновных, то есть, значит, прямо на мой счет… Мне показалось это несправедливым. В ответ на такое распоряжение я пишу, что, по строгим соображениям настоящего дела, виновною в разбитии стекол оказывается одна только ворона; но что для взыскания с нее мне неизвестно ни места жительства вороны, а равно имущества и капиталов, ей принадлежащих, – в ведомстве моем не состоит, а потому покорнейше прошу о разыскании того и другого учинить должную публикацию; приметы же вороны обыкновенные: мала, черна, глупа!..
Я невольно захохотал.
– Вы вот смеетесь, и я думал, что посмеются только; ан вышло не то-с! – слегка воскликнул Рухнев. – Начальнику губернии подшепнул ли кто, или самому ему помстилось, что будто я под последними словами моего рапорта разумел его супругу, которая действительно была черна, глупа и мала; и он мне, рабу божию, предложил через одно лицо подать в отставку, угрожая в противном случае уволить меня по третьему пункту без прошения, – хорошо?
– Хорошо, – согласился и я, но вслед за тем прибавил: – Неужели же это одно только и было причиной вашей отставки?
– Конечно, не одно!.. – воскликнул откровенно Рухнев. – Я как теперь понимаю, главная моя ошибка была, что я с духовенством и дворянством не умел ладить. Должность исправника прежде всего дипломатическая: с мужика он хоть шкуру дери – это ничего, – похвалят еще; но попа и дворянина за дело даже не трогай, а по головке его гладь. И, как вот наблюдал я над этим нашим сельским духовенством, так который поп еще пьет, из таких бывают честные и добрые; но которые совершенно трезвые – спаси бог от них всякого; всем они завидуют, против всех злобствуют, и если уж кому крупица от них перепала, – они тебе во всю жизнь этого не забудут. Какой случай у меня был с двумя попами: один из них, с виду этакой степенный, осанистый, всякое дело начинал с крестом да с молитвою, а сам между тем лошадьми торговал, как цыган какой-нибудь: расплодит, знаете, жеребят и начинает их кормить собранным с приходу печеным хлебом, и лошади выходили у него хорошие, так что в околотке их называли особым именем: поповские выкормки!.. Мне тоже тогда… только что я еще определился в исправники… – коренная понадобилась. Присмотрел я у этого попа одного меринка. «Продайте, говорю, святой отец!» – «Купите!» – говорит. – «А что цена?» – «Четыреста рублей!» Меня как варом обдало. «Святой отец, говорю, я исправник! С меня можно и подешевле взять… Если вы пастырь духовный и блюдете вашу паству от греха, так я, говорю, храню вас от конокрадов». – «Не меня, говорит, одного вы храните, а весь уезд… что ж мне за всех откупаться!..» – и ни копейки не спустил. Как хотите, это обидно… Я не даром у него просил выкормка: возьми с меня цену, но только человеческую, а не поповскую… Думаю про себя: «Ну смотрите, святой отец, не попадитесь мне сами… Тогда и я запрошу с вас мзду не малую», – и точно что очень скоро вышел случай к тому: еду я раз мимо села этого священника в день преображенья… идет служба… я в церковь и, по обыкновению, прямо направился в алтарь, где и встал в уголок… В успенки, как вы знаете, наши деревенские бабы целыми селеньями причащают своих детей маленьких: мрет тех очень много в эту пору. Ягод они, конечно, наедаются и животишки себе расстраивают… Только-с, когда святой иерей наш – и скуфьеносец он был, заметьте, – вышел со святыми дарами и стал совершать причащение, слышу, что такое это?.. Рев, визг и плач раздался по церкви неописанный!.. Я испугался даже; выглянул из-за северных врат, смотрю: другого уж мальчика лет трех подносят к причащению, веселенький этакой, улыбается, а как причастили – заплачет, заорет, а который поменьше, так матери, видно, и унять никак не могут, корчится и кричит младенец почти до черноты… А тут как нарочно, когда я обернулся опять в алтарь, смотрю: около самого меня на окне стоит бутылка с красным вином, употребляемым для причастия, и не закупоренная даже… Я, по невольному любопытству, хлебнул из нее и чуть сам не заревел, как младенцы те. Вместо кагора, как предписано еще регламентом Петра Великого, оказался чихирь последнего кабацкого свойства, так что ни один пьяный приказный за деньги пить не станет. Хотел было тут же начать дело, но, думаю, в храме божием, во время священнодействия, заводить уголовщину – грех! Промолчал-с! Но тем не менее на той же неделе постарался заехать в заштатный городок Дыбки, где есть ренской погребок, из которого, я знаю, для всего околотка в церкви берут вино. Я прямо в этот погребок: дурака тут какого-то сидельца краснорожего, над всем надзирающего, послал шампанского мне заморозить, а сам немедля к приходо-расходной книге и на четвертой же странице встречаю расписку отца Николая Магдалинского, этого самого скуфьеносца и лошадиного барышника, в заборе красного вина по рублю серебром за ведро, тогда как настоящего кагора меньше десяти рублей серебром не купишь, – разница, значит, значительная! Я этот листок выдрал и в карман, а в первое же воскресенье опять к обедне в село и только уж не в сюртучке штатском – а в вицмундире и при всех своих крестах и регалиях. В алтарь тоже на этот раз не пошел, а стал направо на дворянской стороне. Опять идет причащенье-с, опять мальчишки плачут, так что и утешить их ничем не могут. Наконец, отец Николай выходит с крестом… Я подхожу и говорю ему: «Отец протоиерей, я желаю с вами объясниться по одному делу!» Он, надо полагать, сметал, что что-то неладное для него выходит, засеменил, заюлил и в гости меня к себе зовет. Я пошел к нему и прямо начал с того, что вот, посещая нередко в успенский пост церковь его, я заметил, что при причащении младенцев, особенно грудных, они очень сильно кричат и плачут, а потому нашел нужным исследовать причины тому, каковая и оказалась в дурном качестве вина! Смутился попенка. «У меня, говорит, вино хорошее покупается!» – «Хорошим, я говорю, оно никак не может быть, потому что вы платите по рублю серебром за ведро, а кагор стоит десять рублей!» – «Как же, говорит, ваше высокородие, вы это знаете?» – «Да я, говорю, видел вашу расписку в книге в погребке и листок этот выдрал». Смутился поп сильно.