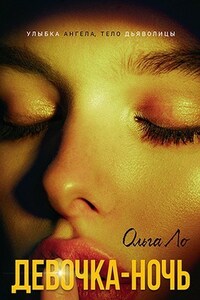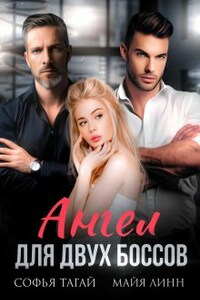Она стоит ко мне спиной и никого вокруг не замечает. Точёные ноги, узкая талия, идеальная осанка — первое, что бросается в глаза.
Потом мой взгляд становится придирчивым, и я вижу стерву, ходячую гильотину, отрезающую мужские члены с изяществом легкомысленной танцовщицы. Метафорически, конечно, не буквально. Хотя, кто знает, верно?
На ней короткое чёрное платье-пиджак и чёрные туфли-лодочки на высоченных шпильках, способных достать до ядра нашей грешной земли. Тёмные волнистые волосы стянуты простой чёрной резинкой. Минимум косметики.
Можно было бы принять её за бездельницу, за женщину, рождённую в провинции и мечтающую стать звездой, но это не так. Гедонизм в моде, и здесь он в чистом виде, — я вижу, как неуёмным фонтаном из неё бьёт желание получать удовольствие, всё её тело — от макушки до кончиков пальцев — источает густую, горячую похоть. Только это её интересует.
Она хочет секса и знает, где его достать. Поэтому она здесь, в нашем доме.
Агапэ, людус, эрос. Три разновидности любви. Три экспозиции. Три средства выразительности: картины, фотографии, скульптура. Наш особняк гудит пчелиным ульем, интеллигенты, филантропы и эстеты всех мастей и званий перетекают от одного шедевра к другому. Сжимают тонкие ножки хрустальных фужеров в наманикюренных пальцах, промакивают шёлковыми платочками с монограммой и смрадом селективного парфюма подколотые вспотевшие лбы; и перешёптываются, перекрикиваются, пережёвывают блестящими напомаженными ртами всё, до чего способны дотянуться.
Она не ест и не пьёт. Ни с кем не вступает в светские беседы. Не подпускает к себе и близко ни одного из этих сластолюбцев и развратников своей подчёркнутой меланхоличностью. Холодной отстранённостью. Пустотой.
Я нахожу в списке гостей её имя, редкое, как и её красота. И у меня встаёт даже на него. Я примеряю её имя на свой член, будто бы это ещё одно отдельное от её существа тело. Делю его поровну между мной и двумя моими братьями — Аресом и Антеросом. Мы трёхголовый цербер, и членов у нас столько же. А эта девочка — наша Персефона. И ей не выбраться отсюда без своей порции любви сегодня. Нет. Вот только я ещё не знаю, какой именно…
— Аид, дорогой, какая изумительная выставка! Феерия эмоций, апофеоз экспрессии и буйство красок, я поражена! — к моему плечу прилипает пышнотелая, баснословно богатая Инга Лурье, наследница именитого ювелира, не способная кончить даже с двумя мужиками. Исключительно с тремя. Все её дырки должны быть плотно заткнуты молодыми крепкими болтами, словно стальная цистерна наполненная вожделением, чтобы эта распутная, жадная до качественного траха дама не расплескалась попусту и смогла получить хоть один приличный оргазм. И драть её надо довольно долго.
— Какие же вы талантливые, мальчики. Красивы, поэтичны и богаты, как Крез! — в серых глазах лихорадочно колышется похоть, на пятнисто алеющих щеках, сквозь тонны дорогого профессионального макияжа, видна тонкая сеть морщинок, безжалостно выдающих возраст. Она надеется привлечь меня глубоким декольте, где двумя подушками безопасности теснятся её напичканные силиконом молочные «девочки». Прижимается к моей руке, едва ли не позволяя расслабленной кисти незаметно коснуться нетерпеливого паха под тонкой тканью кружевного подола.
Я вспоминаю, как месяц назад мы вставляли в её растёкшиеся блудливым бланманже формы, по очереди и все вместе, во время увеселительной морской прогулки на яхте её мужа, и мне становится смешно и скучно. В одну и ту же щель дважды не войдёшь, а иметь каждый раз новую я могу беспрепятственно и бесконечно.
Повожу широким плечом, деликатно высвобождаясь из смертельного захвата разочарованной нимфы не первой свежести. Её лицо искажает гримаса почти физической боли. Кроваво-красные губы выразительно подрагивают, когда она понимает, что сегодня ей не обломится ни капли наших стояков.
— Извини, — говорю с вежливой улыбкой, — мне нужно лично поприветствовать одну талантливую художницу. Не прощу себе, если не заполучу хотя бы парочку её уникальных работ.
— Это какую? — с сомнением и плохо скрываемым бешенством выдыхает Инга, но я уже плыву в сторону от её неумело расставленных потрёпанных сетей, и слышу, как за спиной скрипят голубовато-белые виниры.
Теряюсь в толпе, занимая новую позицию для наблюдения за моей прекрасной Персефоной. На самом деле я не имею понятия, как она рисует и рисует ли вообще. Быть может, это просто такая игра, она могла вписать в графу напротив своего имени всё, что угодно. Быть может, она художница страсти, творец изящных оргий, животных сношений, замешенных на голом энтузиазме, и никогда не держала в руках флейц.
Я снова блуждаю по ней взглядом, ощупываю, оглаживаю, проникаю в суть. На этот раз не со спины — в профиль. И это даёт мне новую пищу для размышлений, и новый прилив желания обладать. Но я не тороплюсь. Вечер только начался, и мои братья заняты гостями, а я намерен накормить трёхглавого пса досыта.
Хочу смотреть, как исчезают в этом теле наши горячие толстые змеи из райского сада, и как она вкушает запретный плод божественными пухлыми губами.
У такой никогда не будет синдрома Стендаля. Она не станет рыдать над объектом искусства, этим её не проймёшь. Но у неё есть личная драма, какая-то непристойная тайна, я вижу это по её плечам, и готов подставить своё в утешение.
Через реку пёстрых тел ко мне приближается воинственно-настроенная жена Ареса.
— Аид, где мой муж? — спрашивает она, недовольно сведя свои чёрные вразлёт брови.
— Откуда мне знать, Виктория, — невозмутимо пожимаю плечами, искренне про себя надеясь, что братец не затащил какую-нибудь девицу в одну из гостевых комнат, не дождавшись основного блюда. Если Виктория застукает его очередной адьюлтер, нам всем мало не покажется.
Чаша терпения этой женщины давно уже переполнена и, пролившись, способна устроить Всемирный потоп.