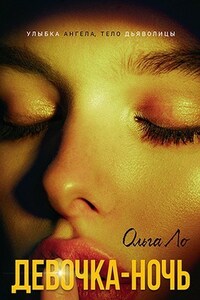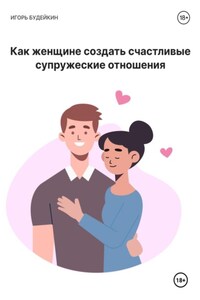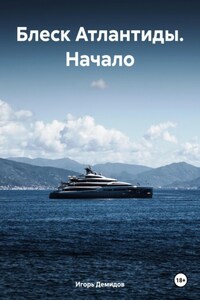— Замри! — приказывает он. Грубая мясистая ладонь опускается на мои дрожащие лопатки, придавливая к полу. — Ниже!
Я стою на коленях. Из-под завесы спутанных волос мне не видно его лица, почти ничего не видно, кроме старого потёртого ковра перед самыми глазами. От ковра несёт пылью, грязью, овечьей шерстью и кислым потом — точно так же, как от нависшей надо мной вонючей свиньи...
— Красивая девочка, — хрипло шепчет отчим, поглаживая мои ягодицы под тонкой тканью трусов, шаря жёсткими пальцами по голой коже. Сорочка задралась, холодный зимний воздух обжигает спину. — Ты такая красивая девочка, Катарина... — его голос звучит громче, дыхание со свистом вылетает из горла, он весь издёргался от возбуждения и злости, от бессилия... — Маленькая шлюха! — тяжёлая рука бьёт наотмашь.
Тело пронзает острая боль. Я не издаю ни звука, крепче стискиваю зубы, прикусываю язык. Рот наполняется вкусом крови и это успокаивает меня.
Кровь мне так хорошо знакома. С ней всегда просто. Я могу контролировать её. Могу заставить появиться, когда захочу. Могу слизывать со свежей раны, могу позволить течь без остановки...
Я кровавая шлюха, думаю я, и смеюсь. Сотрясаюсь от хохота, высокого, рваного, как у гиены.
Несколько долгих секунд отчим не понимает, что происходит. Он думает я так плачу, молю о пощаде. Он думает, что я боюсь, а когда понимает, что это вовсе не слёзы, ударяет снова.
— Твоя мать была такой же!
Конечно, что ещё ты можешь мне предъявить?
Жалкий кусок дерьма, окрутивший обезумевшую от горя женщину вокруг пальца. Захапавший всё, что у нас было... Подставивший моего отца…
Ненависть топит лёгкие, сердце гонит по венам раскалённый металл.
Не сейчас. Ещё не время. Я ещё не готова.
Я прекращаю смеяться. Мне хочется заорать, но я молчу. Колени и локти одеревенели, пульс горячим назойливым молотом долбит виски. Мне трудно дышать, хочется пить, хочется хлебать свежий воздух и воду огромными жадными глотками. Но пока что я захлёбываюсь лишь пылью и гневом.
Отчим тяжело опускается на пол. Грузная туша в растянутой майке и трениках растекается вокруг, словно слизень, вылезший на мостовую после дождя.
Он вытягивает короткие толстые ноги, запускает руку в штаны, вяло теребит то, что осталось после ампутации от его никчёмного члена, трётся затылком о стену. Хнычет.
Пока он корчится, я пользуюсь моментом, в попытке дать хоть немного отдыха насмерть затёкшей шее. Но как только мой лоб касается пола, отчим рявкает:
— Начинай!
Я закрываю глаза.
Мысли исчезают. Остаются только чувства.
Уперевшись в пол левым плечом, я стягиваю трусы. Как следует смачиваю пальцы правой руки слюной, медленно, не спеша, поочерёдно засовываю их в рот. Обвожу языком по спирали, посасываю кончики каждого, подольше задерживаясь на среднем.
Отчим прерывисто дышит.
Я слышу, как гулко колотится его заплывшее жиром сердце в рыхлой, насквозь пропитавшейся табачным дымом, волосатой груди.
Если постараюсь, если буду особенно страстной, если продлю изощрённую пытку достаточно долго, смогу довести его до сердечного приступа. Прямо сегодня. Сейчас. Нет…
Это слишком легко.
Слишком милосердно, щедро.
А мне нужны муки. Агония. Боль. Нужны кровавые сопли, предсмертные крики. Нужна казнь.
Я дойду до самого дна его ужаса и оттолкнусь…
— Дальше! — ревёт он. Истерично, сипло.
Я улыбаюсь. Нежно вырисовываю влажными пальцами замысловатые узоры вокруг плотно сомкнутого входа во влагалище, растягиваю кожу, приоткрывая блестящую розовую глубину… Не тронутую, чистую.
Отчим хрюкает.
Он в моей власти. Я ощущаю его обмякшее тело, слабую волю. Вижу внутренним зрением голодный взгляд. Слышу злые беспомощные шлепки, чую отчаяние.
Тонкие проворные пальчики проникают внутрь. Указательный. Средний… Большой ложится на клитор. Безымянный протискивается в тугую дырочку попки. Мне становится привычно хорошо. Невероятно хорошо и сладко. Я знаю и люблю своё тело. Я владею им полностью, единолично и безраздельно. Ничто, никто и никогда не встанет между нами.
Я застываю, слегка лениво вожу бёдрами из стороны в сторону, вверх-вниз, гостеприимно выгибаюсь навстречу собственной руке. Пальцы оживают, превращаясь в отдельный независящий от меня организм. Они работают слаженно и органично — то быстрее, то медленнее сжимают, трут, сминают податливую плоть — как музыканты в оркестре. Каждый исполняет свою партию, самозабвенно, бешено, как в последний раз.
Я насаживаюсь на них, не сдерживая стоны наслаждения, я окутана удовольствием с головы до ног. Меня не беспокоит ни поза, ни положение, я не помню прошлого, не думаю о будущем. Я здесь и сейчас. Я чувствую, как судорожно сжимаются гладкие шелковистые мышцы, как немеют ступни, когда долго, сильно, почти болезненно, кончаю, и позволяю, наконец, себе закричать. Проораться до немой глухоты! Пальцы легко выскальзывают из пульсирующих отверстий, прозрачные ниточки смазки тянутся за ними, пачкают широко разведённые бёдра. Рука безвольно падает на грязный ковёр.
Я восстанавливаю дыхание, когда бессвязное бормотание, быстрый шёпот, похожий на молитву, доносится до моих ушей:
— Ведьма… вакханка… Суккуб…
А потом я слышу плач.
Сегодня мне девятнадцать лет.
Я только что похоронила мать.
За окном встаёт бледное ноябрьское солнце, и так начинается мой новый день, моя новая жизнь.
Жизнь без любви.