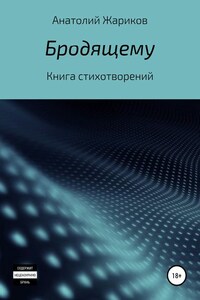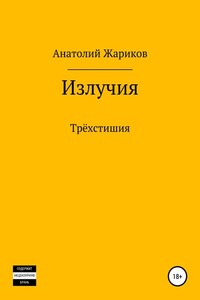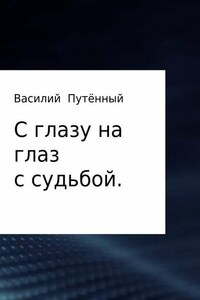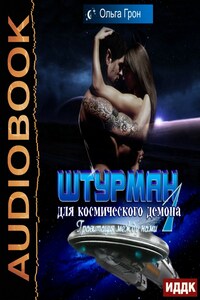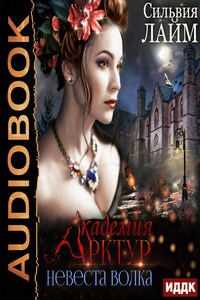Здесь грызла кости маета метафор
такая, что, упав на столик,
официант, рванув рубаху, плакал,
как алкоголик.
Здесь сиживали Лермонтов и Блок,
и стриженые женщины Бодлера
им пели и плевали в потолок
и в биосферу.
Здесь, не поймав мыша, плясал чердак,
и стены падали, и неуклюжесть Баха
была сильней, чем тёмный кавардак
бетховенского страха.
Здесь правил африканский тамада
имея скулы древней пирамиды.
И если кто-то суесловил, да
был битым.
Здесь чувства и огромные глаза
расписывали Босх и Врубель,
и опускалась чёрная звезда
собаке в руку.
Здесь было место для убогих всех;
весна цвела, гниение отбросив,
и жрал стихи в камине красный смех,
обезголосев.
***
По окна снега намело,
никак не выйти.
Что делать? Умникам назло
свершать соитье.
Зажгли свечу, и на стенах
сразились тени.
Не приходила и во снах
стихотворений
ко мне потом такая жуть
оттенков, линий.
Спрошу у вас: когда-нибудь
вы так любили?
А под кроватью, где тоска
и кот наплакал,
бант, платье и два башмака
лежали всяко.
И вечно дуло из угла,
и то и дело
гасили свечку два мурла
из спецотдела.
Ко всем ещё благоволя,
жизнь нас прощала
всех: от поэта и до бля.
И продолжала.
Оглянись, Ярославна, мы посмотрим на тебя.
Мы скажем, кто ты и какая есть.
Что смотреть нам на закат дня,
на восход солнца?
Твоё целомудрие чище света.
Мысли твои быстрее речи Торца,
проворней князя Игоря побега из плена,
слова сладкозвучнее влаги небесной.
Нос твой – купол святого храма;
ноздри – щёлки в дверях застенка кремлёвского.
Лоб твой, как площадь лобная.
Кудри твои – вьющаяся проволока с шипами
зоны Колымской.
Руки и ноги твои – долгие реки восточные.
Смешинки в очах – бесчисленная рать басурманская.
Дай потрогать живот твой – округлый майдан
града Киева.
Чрево ж твоё – ночь, разорванная
жёлтыми созвездиями.
Груди твои – облака, налитые грозовою влагой.
Ярославна, возлюбленная отчизна моя.
Идут пьяные лабухи,
друг за другом скользя,
не послать их всех на ухи?
да, наверно, нельзя.
Дым отечества горек,
ухожу в темноту,
я любил страну строек,
да, наверно, не ту.
Отпусти меня, боже,
я раскаянный весь;
жить и веровать можно,
да, наверно, не здесь.
Мимо глаз, мимо снега,
до свиданья, друзья!
Повернуть бы телегу,
да, наверно, нельзя…
Мой друг, болгарин из Софии, Красимир
Георгиев (да не судите строго
его фантазию) встречал единорога,
я переводом это подтвердил.
А дело было, как понять я мог,
так: он с вечеринки возвращался, место
глухое было, в лужице у ног
увидел две звезды и полумесяц,
и тот представился: "Единорог".
Хоть страшен зверь был, без испуга
поэт признал в нём не диковину, но друга.
Когда я пьян и женщина у ног,
я часто плачу, вспоминая этот
весёлый случай; рад, что Рог
нашел, в конце концов, Поэта,
а мог бы и не мог.
Но Красимир дал выход положенью
и написал о том стихотворенье.
А что утешит одинокого поэта?
Вино и женщина, курительный табак?
Всё это так
и всё же всё не это…
Перевожу Красимира Георгиева
Совесть чернил в чернильнице.
Чем писать? Карандаш.
Тушь для зрачков. Свинец.
Стих Красимира.
Откровение Василия Розанова
Моя душа – венок, по сути,
из грязи, нежности и грусти.
Плывёт. Куда ж нам плыть? Столетья раздвигая,
торопится мой многокрылый ямб;
то в шесть пудов волна, то гладь морская,
и в грубой робе за штурвалом я.
С больших деревьев листья облетают,
тепло теряет голая скамья.
Есть в поздней осени заведомый изъян,
как первая в начальном мире тайна.
***
В гостях у старой ведьмы. За вином
за словом слово красится беседа.
Зайдёт на огонёк Елизавета,
ея сестра. В три голоса поём.
Завечереет. Свечи разожжём.
Ночной тусон под видеокассету.
Размазан гением на полный том
сюжет в строку. Из Ветхого завета.
***
Мама!
Твой сын до сих пор на улице.
Часы на башне пробили двенадцать.
Ушла малярия, ссутулившись,
вырезали аппендикс,
Россия вступила в НАТО.
С любовью, как и с революцией,
ни хрена не вышло,
но я выздоровел совсем,
потому как у времени поехала крыша:
десять,
девять,
восемь…
Чевенгур Андрея Платонова
Полезные брожения в стране,
болезные исканья Птицы Счастья.
И секс с любимой женщиною не
часто.
Из Дневника Зинаиды Гиппиус
Я подло боюсь матерей,
что весточку чают о павших.
И дух патриота мне страшен,
и Божья тоска по земле.
Из сладких, отравленных, сот
летают чужие глаголы.
А правда ужасна и гола.
Молитва молчанья спасёт…
Софья мышью копошится в кабинете…
Ночь, не спится. Колет узкая полоска света.
В темноте и в свете, в мыслях ложь,
в человечке тайные неправды сплошь.
Тишь бодрит, шумит здоровый пульс.
К бесу всё! Уйду и не вернусь!
Тихо-тихо, чтоб не слышала – она.
И дорога непосильна, зла, бедна.
Вот и всё. Жестоко. Дико. Странно.
Оставайся, Ясная Поляна…
***
Точный перевод – это неуклюжий подстрочник,
это выстрел в пустое небо,
где ни птицы, ни бога,
ни с пассажирами Боинга
нету.
Одни точки разрывов слов,
как вен.
Будь пророком в своём отечестве,
уходи от одиночества,
чувства все интернациональны,
стихи почвенны,
держи форму времени и лица формулу.
Например, идёт дождь,
шумят берёзовые деревья,
подними влажные ресницы
и скажи:
«Это грустит великий француз Шарль Бодлер,
старший друг великого француза Артюра Рембо,
которых пишет на русском
Анатолий Жариков».
***
В русском трёхстишии
не обязательны японские скобки –
5-7-5.
В русском трёхстишии возможно и –
20-1-5.
В рифму.
***
Ах, Анна милая чудила,
писала, колдовала, верила.
А Гумилёв вскрывал, как вены,
серебряные мысли Нила.
Спешил трамваем сумасшедшим,
позвякивая на извивах,
срывался с реек в древних Фивах,
выныривал на лунной жести.
Пока, преследуя удачу,
колёса шли по Дарданеллам,
летела золотом гудящая,
свинцом похмельная летела…
В страну стихов, любви и страха,
распутных жён и верных женщин
клубком кроваво-жёлтой шерсти
катилась голова жирафа.
***
По дереву белкой,
мечом по княжеской вые,
Ярославны – все – выли
и в век из века
беременели
русыми воями,
ратаями, изгоями,
блаженными и поэтами
от начала лета Господня
до конца времени.
Через девять сроков
открывалось Слово.
1
Это – бич, и бродяга, и лох,
это – круче бродяги и лоха,
это – сваренный круто горох,
это – щёлканье после гороха.
Это – флейта и барабан,
это – град с барабана на грядку,
это – слёзы роняет баран,
как созвездие, – по порядку.
В мире тесно и духота,
челюсть месяца кривится болью,
мне, читатели, хохотать
бы, ан обсыпаны губы солью.
2
Я трясся, я зажигался и гас,
как будто пропал в зажигалке газ,
я тёк фруктовым при взгляде на вас,
как будто воду спускал в унитаз,
безукоризненное, как стон,
табачного цвета текло в унисон
признанье моё и мою антресоль
при виде ног ваших
тоже трясло.
3
Сто страниц прочитал Пастернаковой книги
и заснул на сто первой от шума метафор.
Мне приснились поэта нужда и вериги
и что я клеветник и пасквилей автор.
И с паучьими жалами серые мухи,