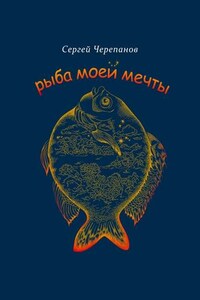Сначала был создан остров Маврикий,
а затем, по образу и подобию его, – рай.
Марк Твен «По экватору»
Еще в самолете я задумался: а что же такое – Рай?
Наверное, это благословенный заповедный край, обитель отдыха и покоя, куда попадают хорошие люди и между ними складываются добрые, дружеские отношения.
А еще – это область исполнения желаний, когда без усилий, играючи, вот только попросил – и дадено, да еще так нежданно, причудливо, но именно то, чего хотел.
С первым тезисом я согласился сразу.
Вот если бы вы были Творцом, и вам предложили бы отрегулировать по райским канонам температуру воды и воздуха? Что бы вы выбрали? Градуса 23—24? И то, и другое? Причем утречком воздух чуть прохладнее, скажем, 17—18, а вода – теплее, и вечером – то же?
Та-ак!
Или, к примеру – глубину моря, у берега?
Полметра?! Не-е, это слишком. А вот от одного до четырех, и чтобы риф, и всевозможные кораллы и водоросли, и непуганые разноцветные рыбки, и песочек, а захотел – и камни, и волна над серфером прозрачным завитком, и огромные пенные лавины-валы, долгий блестящий отлив, и креольские женщины в разноцветных юбках, подростки, и дети, и даже некоторые мужчины, присев, выбирают с ними креветку, а после закуривают на закате, обдумывая, как пойдут с раннего утра на марлина, безумную глубоководную рыбу, – вдаль от прибрежной мелкоты…
А взять, к примеру, горы?
Нужны ли нам горы более 300, ну, максимум – 500 метров? Может ли человек средних лет без специального снаряжения забраться выше? И не нужно!
Конечно, с другой стороны желательно, чтобы они были обрывисты, скалисты, неприступны. Чтобы можно было сказать: вона куда я забрался!
Я думал об этом, поднимаясь на Мон Брабан, неприступную с запада и удобную для подъема с востока, и увидел косуль, диких, пугливых, и стал подбираться ближе, полез над сыпучим обрывом – сфотографировать, а они отбегали, и, замирая, как санаторные статуи, косились с отвесных скал на меня, чтобы вдруг ожить и исчезнуть.
И все же, я снял их! Сверху, с покоренной мною вершины, а вернее, с веранды ресторана «Парадиз», построенного, как сказано в меню, – на границе покоя и риска.
Скромный пансион у моря, где я поселился, принадлежал выходцам из Китая – молчаливому брату и не менее приветливой сестре, похожим как две китайские капли воды, полные и круглые. Негритянка-уборщица, старик-садовник (он же – охранник) словно вышколенные стюарды улыбались мне издалека.
Пансион пуст. Пожилая француженка из Страсбурга с тремя внучками, воспитанными и славными детьми, – не в счет.
Мы раскланивались за завтраком, и лишь в последний день, отъезжая, она с сожалением сообщила, что ее познания в русском ограничиваются словами «Bolshaya korova», чему научил ее внук давнего приятеля-эмигранта.
Ах, если бы она знала, как я рад одиночеству, рад тому, что великий и могучий не звучит даже шепотом, а паче всего, что сюда не добралась еще наша жирующая элита.
После завтрака, уложив в котомку плавательные принадлежности и фрукты, отправлялся я на прогулку вдоль берега, пытаясь забраться куда-нибудь подальше, в неизведанную еще область, и увидеть что-нибудь этакое в конце и по пути.
Обычно для таких путешествий я выламываю посох, с которым идти веселее и размашистей, и чувствую себя уверенней на заросших тропических тропках.
Вот и сейчас, миновав пляж и очутившись в прибрежных зарослях, я не успел пройти и нескольких шагов, как увидел его.
Отличный бамбуковый посох!
Легкий, прочный, и верхний конец заточен в случае чего, но, слава Богу, не понадобилось.
Тут же примерил, как лыжную палку. В самый раз. Как надо. И я поглядел вокруг новыми глазами и понял, что это уже второе чудесное событие.
А первое произошло только что. Шагаю по пляжу, долгой песчаной отмели, устал, жарко – солнца с избытком, и только подумал о прохладе и ветерке – теперь я это понял! – тут же очутился в лесу, то есть обнаруживаю себя в тени, и деревья уже нависают над берегом, а кое-где и над морем.
Ах, неспроста, неслучайны сии превращения. Я стал замечать, что походная жажда мгновенно утолялась случайным разносчиком кокосов и ананасов, жара – мимолетным дождем, рассветная тишина – зажигательной сегой у костра, красного как юбки танцовщиц, обратная дорога – попутною песней, а благодатное одиночество – картинками из жизни местных влюбленных: с авансами, придыханием и ловитками с визгом и беготней по песку и по морю, долгими-предолгими поцелуями, и смуглыми телами в песчинках и каплях, которые так упоительно и томно…
На промысел огромных голубых марлинов, напоминающих меч-рыбу, на глубоководную рыбалку я не решился. Целый день на солнце, и потом – дорого.
А вот увидеть – хотелось. Даже не увидеть – в Порт-Луисе, в музее я уже побывал и даже потрогал чучело, – а ощутить мощь и трепет, дрожь тела, идущего в глубину, нарастание давления и боли, когда все уже кончено и сердце уже не стучит, и еще чуть, чуть… и надо выруливать, и возвращаться, и нестись к свету, выпрыгивая, взлетая над водой…
Солнце клонилось к закату. Я присел на берегу, провожая еще один день, вслушиваясь в аэродромный гул волн, угадывая перемену цветов на море и на небесах.
Океанская волна накатывала на берег и, отражаясь, бежала навстречу новой, и бывало, они встречались вместе, словно ладошки мирного буддийского приветствия, но бежали дальше, насквозь или угасали при встрече.
Марлин появился на севере.
Облако, дотоле бесформенное, вытянулось, острый меч его принял первые волны заката и окрасился золотом, а затем пурпуром и вишней.
Да вот же он – летящий марлин!
Вот он – явился, и полет его был достаточно продолжителен, чтобы рассмотреть и парусный плавник и блестящую чешую, и наконец, что тает он с меча, с головы, словно возвращается в свою стихию, в бездонные, как ночное небо, глубины.
Солнце ушло. Вся сила его огненная сужалась, сжимаясь все более, и небо покрывалось пеплом, темнеющим с каждой секундой.
Казалось, и я погружаюсь вместе с ним, и давление неба растет, и вот уже кое-где сгущаются и обретают форму тайные безмолвные силы и вспыхивают огоньки глубоководных рыб, причудливых, как созвездия.
Стой, марлин, стой! Я боюсь этой темноты!
На мгновение закат замирает, освещая и море и небо зеленоватым сиянием. А марлин зовет, и манит, и несется, безумный, туда, – за пределы… И навстречу ему надвигается тьма…
…Акула появилась столь явственно, надо мной, изогнувшись перед тем как покинуть орбиту и ринуться вниз, и овальная пасть ее открылась, обнажая белые, даже во тьме отливающие зубы, и было страшно, как в детстве – ужас заполонил сознание до самых потаенных и дальних участков.