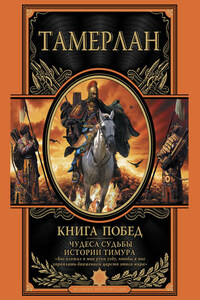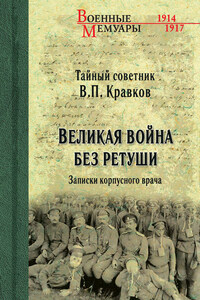…Я помню, как меня крестили. Мне кажется, что первое мое впечатление от жизни – это купель под водой: меня окунули в чашу серебряную – ух! – и я вышел. Наверно серебряную, потому что уж очень она сияла. И вода в сиянии в сильном вибрирует… Меня ведь не маленького крестили.
И мне эта купель все время мерещится, преследует…
Я хорошо помню трагическую участь деда, как его глубоким стариком выгнали из дома, и он ничего не понял, он думал, что это просто хулиганье, бандиты пришли его грабить. Он был сильный старик, стал их прогонять из своего дома, взял коромысло, ему было восемьдесят шесть лет. Они его выкинули на снег, и с ним был инсульт. С трудом его все-таки родственники отходили, посадили в поезд, и он приехал с бабушкой в Москву.
Отец в это время сидел, и встречал деда на вокзале я, мальчишкой совсем. Сколько мне было? Лет 11 – коллективизация начиналась, 29–28-й годы – 10–11 лет. И я помогал носить вещи деду, он плохо ходил после удара, рука не работала, и я до сих пор помню, как за то, что я ему помог перетаскать на третий этаж все их нехитрые пожитки, он дал мне большой серебряный рубль. Я был удивлен и пролепетал:
– Что вы, дедушка!
Дед наставительно произнес:
– За всякий труд надо платить. Вот они не платят, и ничего у них не получится. Запомни, внучек…
Дед и бабка были крепостными. Когда отменили крепостное право в 1861-м году, они очень рано женились и он очень умело вел хозяйство. Он был грамотный, очень верующий, был церковным старостой, пользовался большим уважением в деревне. У него был великолепный сад, его руками сделанный. Дом стоял – хороший сруб в два этажа, крытая железом крыша, хорошо прокрашенная. Мы любили по ней бегать, а дед гонял.
Дед жил в деревне Абрамово, а я родился в Ярославле тридцатого сентября 1917 года – за несколько дней до революции все-таки я успел проскочить. Вера, Надежда, Любовь, мать их Софья и я. Никогда цветы нельзя было в этот день подарить – все разбирали для дам! С пяти лет моя семья переехала в Москву.
Ярославль – это древний русский город на Волге. И там первый театр – театр имени Волкова, при Екатерине Второй основанный. С великим русским актером Волковым. Большой, классический театр, с колоннами, с портиком – очень красивый старый театр.
Отец потом привозил нас к деду. Он уже был довольно состоятельный. И все равно дед оставался главой семьи. Все садились за стол, и только с разрешения деда, после молитвы, все начинали есть. И отец деда всегда называл на «вы», так же как я отца всю жизнь: «папа, вы».
Видимо, это было несколько лет – в деревню мы приезжали на лето. Сперва я помню, мы с братом приезжали, значит, еще Наташи не было, а потом мы втроем приезжали. Значит, это несколько раз было. И в ночное лошадей там гоняли, и на сеновале прыгали и спали. И помню еще всякие эпизоды такие: как двоюродные братья мои, здоровеннейшие – род был сильный, – они, если выпивали, то жеребца – рыжий жеребец был прекрасный, звали его Барон, – они подлезали под него и таскали, кто дальше пронесет, сколько шагов. Такие развлечения. В городки они очень любили играть – с коваными битами, – одной лаптой вышибали фигуры. Лихо играли, деревня на деревню. Ну потом, конечно, и страшные драки я видел, деревня на деревню.
…Мне врезались какие-то черты детства. Например, когда я прыгнул со стола. Дед сказал:
– Выгони корову из сада, – а я на столе танцевал. И я прыгнул и попал на осколки стекла от керосиновой лампы, и они у меня в пятку вошли. Ну, и мама стала кричать:
– Господи!.. Скорей… врача!
Дед ей сказал:
– Замолчать!
Мне дал хорошую подзатрещину, положил на колено, вынул перочинный нож, прокалил его на спичках, вытер и потом начал выковыривать все стекла из пятки. Я стал орать, он мне изредка давал подзатыльник, чтоб я прекращал орать.
Он все выковырял, посмотрел, что нет там стекол больше, залил йодом, перевязал ногу, отнес в сад и сказал двоюродной сестре:
– Сорви ему яблоко и ягод.
У него были прекрасные яблоки, антоновка, черная смородина, малина, – замечательный сад. И мне врезалось, что дед разрешил, а двоюродная сестра сразу стала воровать: набирать за пазуху яблок – и я это помню. Потому что мне было больно, и все-таки я ей говорил:
– Как тебе не стыдно, Прашка? Дед тебе разрешил взять яблоко, а ты воруешь и столько набрала яблок!
Это вот какие-то первые понятия, что плохо, что хорошо, что нельзя врать. Как можно не слушать деда! Видите, это врезается на всю жизнь.
И так же он плавать меня учил. Взял в охапку и бросил в пруд – там карасей мы ловили – и я выплывал. Я выплыл с трудом – ну так, по-лягушачьи, он опять меня бросил. Таким образом я стал плавать.
Он замечательно собирал грибы, он их фантастически находил. Я смотрел за ним, и он меня научил, как собирать грибы. И когда он был уже не в себе, гонял меня:
– Уйди, чего ты за мной все ходишь.
А я боялся его одного оставлять. Я отбегал, а потом опять приходил, чтобы отвести его домой…
Дед носил окладистую бороду, имел иконописное лицо и мне всегда напоминал Николая Чудотворца.
В Москве дед был совсем мало, он был раскулаченный, и его надо было скрыть. Поэтому отец, видимо, и снял в Малаховке, по Казанской дороге, дачу, и дед там жил с бабкой.
Там он и умер, и я хоронил деда мальчиком и всю ночь смотрел на лежащего мертвого деда. Потому что никого не было, была бабка живая еще. Но он умирал совершенно как святой, ночью крикнул:
– Вставай, приведи священника!
Это было в Малаховке, и я бегал по этой не то дачной местности, не то деревне ночью. И отыскал священника, привел. Священник отпевал деда, свеча у деда горела, он сказал бабке свои наставления, потом мне сказал, что я должен передать Петру. Он так отца звал – Петр. И по библейски совершенно – закрыл глаза и отошел.
* * *
Папа увидел мою маму на балу в гимназии, она с лестницы спускалась, бежала. А он такой шкет был из коммерческого училища. И он влюбился сразу.
Мама была полуцыганка, и дед был очень недоволен этим браком. Мой другой дед – по линии матери – был чистый цыган, но оседлый. Он очень любил лошадей и на выезд держал двух лошадей всегда. Просто из любви к лошадям, хотя не был богат.
Отец был у меня коммерсант, довольно состоятельный и образованный человек. У него был такой вид, что нигде билета не спрашивали, даже советские. Очень импозантный был вид. Выше меня, шире. Очень любил красивые вещи, очень женщин любил. Входил в комнату и говорил маме:
– Анна, парадно! Сними все чехлы в гостиной. Зажигай люстры. Поставь красивый сервиз кузнецовский.
Мама в испуге говорила:
– Кто-то придет? Ты не предупредил, Петр!