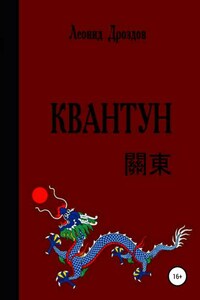Комната, в которую никогда с утра не проникал солнечный свет, дремала тихим сном. Дети мирно сопели возле остывшей голландки, закутавшаяся в лоскутное одеяло жинка темной горою возвышалась над ними, словно князь Владимир над Днепром. Каким-то непередаваемым спокойствием веяло от этой картины, чем-то болезненно родным. Величайшая радость наполняла душу Филиппа в такие моменты. Хотелось елико возможно дольше сохранить эту идиллию, это чувство семейного очага и семейной сплоченности.
Тишина и безмолвие повисли в воздухе.
Половина пятого утра. К этому времени Филипп всегда просыпался и выключал заведенный загодя будильник. Делал он это для того, чтобы не потревожить сон любимых домочадцев, которым в такую рань еще спать да спать. Ему же нужно было собираться, чтобы к шести часам успеть на заводскую проходную.
Осторожно поднявшись с расшатанной и просевшей кровати, Филипп наощупь добрался до старого венского стула, на котором лежала приготовленная одежда. Холщовая рубаха, серая фуфайка, ладные справные помочи, крепко удерживавшие полинялые штаны, летом – кубовая жилетка и бостоновый пиджак – вот и весь скарб. Вот и весь гардероб токаря Бабенки.
Оросив лицо из рукомойника, мужчина потер шею, потянулся. В позвоночнике что-то хрустнуло – годы брали свое. К сорока годам уже не чувствовалось той легкости и того задора, который сопровождал его лет пять тому. Работа на заводе кого хочешь пополам согнет. Ладно еще инвалидом не остался, как Сидоренко, которому намедни ампутировали руку, захваченную вращающейся заготовкой вместе с рукавом халата. Вот где беда! Никакие выплаты по увечьям в нашем «заботливом» государстве не предусмотрены, живи далее как знаешь. А что у Сидоренки пятеро детей – никому дела нет. Сам-де болван, не проверил патрон и крепление зажимного приспособления к шпинделю.
Что интересно сейчас едят евоныя детки? Ох…
Нацепив смазные сапоги, юркнув в суконную куртку и нахлобучив помятый картуз, Филипп отворил дверь в мрачный коридор, взглянув напоследок на икону в углу. Грустно вздохнув, он подумал о том, что бога, вероятно, не существует, ибо за что он заставляет его каждое утро ни свет ни заря тащиться на осточертевший завод? Пока спускался по скрипучим ступенькам лестницы, думал о несправедливом устройстве жизни, где кто-то до гробовой доски вкалывает как проклятый, а кто-то всю жизнь ездит в белом ландо и кушает конфекты. Тьфу!..
Во дворе Филипп поежился от внезапно атаковавшего мороза. Октябрь – месяц капризный, переломный. С октября начинаются первые заморозки и первые стужи. Земля всё дальше отдаляется от солнца, наступает самое депрессивное и меланхоличное время.
На балконе второго этажа сушилось еврейское белье. Еврейское, потому как подавляющее большинство квартирантов дома, в котором жили Бабенки, иудеи. Здесь нашли свой приют ремесленники, приказчики, студенты, рыночные торговцы и прочие сомнительные личности, из-за которых с регулярной периодичностью, раз в две недели, полиция устраивала облавы. Многие в России не знают: несмотря на то, что Киев расположен в черте оседлости, постоянное жительство евреев в этом славном русском граде воспрещается. Жить здесь могут лишь те евреи, которые могут жить и везде, как то: вышеуказанные ремесленники, купцы и их приказчики, студенты, солдаты и некоторые иные группы лиц. Однако даже эти ограничения не могут повлиять на быстрый рост иудейского населения. Вот и приходится встревоженным властям осуществлять изматывающие и зачастую бесполезные облавы, о которых евреи, как правило, знают заранее.
Ничего плохого в евреях Филипп не видел. Его семья как-то сразу сдружилась со всеми обитателями лишенного излишеств трехэтажного дома в «кирпичном» стиле (это когда архитектурные украшения выполняются за счет фигурной кирпичной кладки). В сущности это были милые отзывчивые люди, несколько более зажатые и скрытные, в силу своей правовой ограниченности и законодательно установленной ущербности. Черту оседлости Бабенко считал бесчеловечным варварством, и всякий раз в разговорах с соседом Шлёмой указывал на эту гнусную несправедливость к вящему удовольствию последнего.
Сегодня иудеи будут спать долго – работать в субботу им запрещает религия, как нам, православным, она запрещает стоять у станка по воскресеньям. Хотя на государственном уровне табельные воскресенья узаконили лишь восемь лет назад. До того в нашем славном Отечестве о таких мелочах не заботились.
Выход из мрачной арки как всегда был заперт решеткой – пришлось будить дворника. И ведь сколько раз Филипп просил его отпирать поутру ворота. Как об стену горох. Потому, видать, и дворник.
На пустынной улице темно, как в аду. Ни одного фонаря. Заря подымется еще не скоро – примерно в половине седьмого, когда Филипп уже будет в цеху. Однако глаза быстро привыкают к темноте и вскоре начинают различать предметы, благо на зрение Бабенко никогда не жаловался, в отличие от своей жинки, которая в сумерках «ни зги не бачит».
Посреди плохо мощеной мостовой тянутся чернеющие рельсы. Скоро всех, а особливо тех квартирантов, окна которых выходят на самую Бульварно-Кудрявскую, разбудят железные чудовища – трамваи. Соседи с того крыла бают, что «колы така дура несется, ажно кровати ходуном ходют, да дитки пужливо вскакивают». Уж лучше б, ей-богу, на конях ездили…
Трамваев Филипп не любил. И не потому, что пяти копеек в одну сторону жалко, а потому, что пока есть здоровые ноги, надо их использовать по назначению, то бишь ходить. Вот когда невмоготу будет три с половиной версты до завода пешем пройти, тогда, пожалуй, и он запишется в пассажиры. А покамест пусть старики да лентяи катаются.
На другой стороне улицы расположился прекрасный четырехэтажный доходный дом с лепниной, пилястрами и маскаронами на фасаде. Классический образец богатства и зажиточности. Не чета их кирпичному «сараю». В тех хоромах едва ли кто-то из рабочих квартирует. Не иначе как чиновники или офицеры. Впрочем, этого Филипп наверное не знал, так как возвращался всегда поздно. И снова сделалось ему обидно за свое дрянное существование.
Хотя, сказать по правде, жаловался на судьбу Бабенко зря. Он и сам это в глубине души понимал, но неизменно желал себе лучшей доли, глядя, как не считают денег мастеровые-чехи, получавшие по сто тридцать рублей в месяц. Но и его, Филиппа, зарплата в тридцать целковых считалась по городу немаленькой. Иной чинуша столько не выслуживал. Денег сих вполне хватало, чтобы заплатить за маленькую комнатку с самоваром и дровами, чтобы прокормить жинку с двумя детками, чтобы починить прохудившуюся одежку или даже справить новую. Как правило, что-то еще сберегалось. Не больше «синенькой», кончено, но и то неплохо. В целом жить можно, от голода не помрешь, в обносках не останешься. Да и на черный день всегда скарбик припасен.