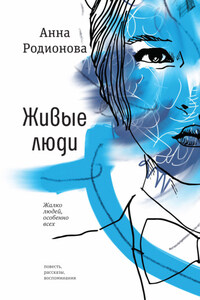«Я – жизнь, которая хочет жить в живом окружении жизни, которая хочет жить»
Анна Родионова – живое воплощение этой максимы Альберта Швейцера. Я не знаю человека, чье сцепление с жизнью было бы таким полным. Хочется сказать: она держится за жизнь мертвой хваткой.
Знаю, что говорю: я наблюдаю это чудо уже тридцать лет. Кинолента памяти услужливо нарезает клип: мы с Аней бежим босиком голышом по снегу с ведрами крещенской воды из-под крана – облиться; мы с Аней чокаемся валерьянкой, решая, уходить ли мне от мужа; мы попадаем в аварию, и сливы из багажника летают по всему салону Аниных белых «жигулей».
Десятки, сотни эпизодов, и в каждом – сгущенная, стремительная, ослепительная жизнь. И Анька – можно я буду называть ее Анькой, как привыкла? – кидается в нее с головой, без промедления, никогда не уклоняясь. Отдается ей без остатка. Но при этом зорко выхватывает и накрепко запоминает ее признаки, ее особые приметы. Чтобы потом рассказать. Устно. За столом. Многочисленным гостям.
«Аня, почему ты не пишешь? Ты просто обязана писать!» – восклицают слушатели. Нет. Некогда. Жизнь отнимает все время. Один старый поэт как-то сказал мне: «Плох тот поэт, который, выбирая между писанием стихов и любовным свиданием, выбирает стихи». Анин выбор все эти годы был выбором настоящего поэта. И уже казалось, что ей суждено вслед за Сирано де Бержераком стать поэтом, не оставившим поэмы.
И тут – новое чудо: Анька стала писать. И кинулась в этот омут, как привыкла: очертя голову. Рассказ за рассказом. Книга за книгой. Когда Анька прислала мне первый рассказ, я открыла его со страхом. Вдруг сработает эффект гальки? Подбираешь ее на пляже влажную – нет ничего красивее. А высохнет – серый невзрачный камешек.
Начала читать – и с первых же слов испытала облегчение: не высохли. Вся стремительность Анькиной жизни, вся блистательность ее устных рассказов – тут. В каждой строчке, с безоглядной щедростью, с детской смелостью, с поразительной зоркостью сердца и гибкостью ума, – признаки жизни.
В спальном корпусе идет работа
повесть
Пробую писать левой рукой. Загружать другое полушарие.
Меня и так муж называет «Боккаччо». Тот в самый разгул чумы кропал своего стоглавого «Декамерона».
Предложила Саше писать с ним «двумя перьями». Сто глав не потянем, но двадцать вполне. Ответил: «Меня не надо уговаривать».
Ах, этот русский язык:
Не надо меня уговаривать – означает категорическое нет.
Меня не надо уговаривать – означает категорическое да.
Сошлись на воспоминаниях о начале нашей с ним жизни – ведь у каждого своя правда, интересно же увидеть себя с его стороны. Что он там про меня понял.
Саша сказал, что попробует, хотя завален работой.
А у меня уже азарт. Ни дня без строчки.
Начало
В Ялту Татьяна ехала в состоянии сильной неприязни к себе самой. Когда-то неплохо начала – писала пьесы, закончила Литинститут, кланялась на премьерах. Но источником хоть каких-то доходов этот труд не стал. А больше она ничего не умела. Конечно, она жаловалась на цензуру, и правильно жаловалась, но, честно говоря, положа руку на сердце, понимала – не ее дело.
Сердце давила тоска от невостребованности, невысказанности и никчемности. Зависть к успешным драматургам душила – когда она получала из ВААПа тоненький бумажный отчет распространения пьес по городам и театрам, ее внимание притягивали везунчики, у которых был городаж. Максимальным успехом пользовались пьесы, уже прогремевшие в столицах, а также детские поделки, которые разбирали ТЮЗы. Но за них мало платили. А вот городаж обеспечивал отличную жизнь, просто сказочную, – можно было путешествовать с детьми к морю, заказывать продукты в ГУМе и шить платья в литфондовском ателье.
Договоры под заявки с ней пока еще заключали. Она писала страничку какой-то лабуды, завершала удобоваримой моралью, как в басне, типа «Высокое чувство ответственности за свой труд и забота о процветании великой страны и бла-бла-бла…».
Но она страдальчески относилась к авансам, которые ей незамедлительно выплачивали, потому что их надо было отрабатывать. А именно это и не получалось. И не хотелось.
Поэтому согласилась поехать на семинар в Ялту, чтобы в уединении, вдали от семьи и детей, сосредоточиться на работе. Написать пьесу о молодежи. Сроки поджимали.
Заняла у обеспеченной родственницы сто рублей и оставила детей на няньку. На кого мужа – не знала и не вникала. У них уже давно все шло наперекосяк.
К поезду ее провожал один из поклонников – уже отработанный номер. Согласилась из жалости, ей он был совершенно по фигу.
Он жалко посидел в купе, неловко тюкнул в щеку и удалился, оглядываясь.
Она забыла о нем в ту же секунду.
В поезде ехал веселый народ – братья-драматурги. Государство изредка подкармливало авторов выездными семинарами. В Ялту в феврале на целый месяц – это была удача. С ними ехали руководители и их жены – наиболее свободная и обеспеченная группа товарищей. Хорошо одетые, с запасами хороших лекарств лечить свои хорошие болезни. Уже в поезде они все надели солнечные очки и стали похожи на кобр.
Ехали к теплу, везли легкую одежду, рассчитывали на приятный ранний загар, который потом закрепят в августе в Юрмале.
Татьяна, которую все звали Тусей, мучительно копалась в своей несостоятельности. Один известный, но полумаститый драматург – с поредевшей лысиной, но с хорошим чувством юмора, по имени Рудик, оказался с ней в одном купе СВ. Татьяне это не понравилось – пилить до Симферополя прилично, и что – не расслабиться, не переодеться?
Направилась к своей еще литинститутской преподавательнице напроситься к ней в купе. Но у той весь двойной номер был в ее пользовании и она совершенно не желала никого впускать.
– Ничего, справишься, будет хорошо, потом спасибо скажешь, – цинично утешила она и выставила бывшую ученицу в коридор.
По коридору фланировал драматург от Латвии Валдис, цепко наблюдая за перемещениями коллег, за стихийно возникающими романами, прислушиваясь к порхающим репликам, – и сразу же записывал в записную книжку. Он писал пьесу о богеме и ее тлетворном влиянии на здоровое советское общество.
Туська попила чаю со своим соседом по купе. Латыш, проходя мимо, каждый раз чуть тормозил возле приоткрытой двери. Рудик сыпал анекдотами, оттачивая их на Туське. А она была очень благодарным слушателем – хохотала как сумасшедшая.
Валдис старался запоминать анекдоты, но переспросить стеснялся. Надеялся, что потом вспомнит.
Наконец настало время ложиться спать. Давясь от хохота, Рудик и Туська решили не закрывать дверь – «чтобы все нам завидовали». Потом он все же вышел и дал ей переодеться. Она, радуясь, что у нее есть летнее платье, в котором можно было элегантно прилечь, быстро постелила постель и легла, натянув одеяло с простыней до глаз. Освобождать соседу купе она не собиралась.