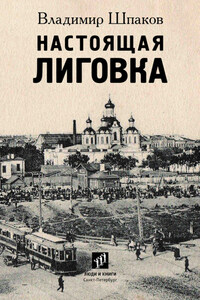1
– Зачем куда-то идти?! – недоумевает она. – Не понимаю!
Ковач молча натягивает кожаный плащ, обматывает вокруг шеи грубый вязаный шарф.
– В городе ничего не работает!
Он вставляет ногу в ботинок, помогает себе ложечкой.
– У нас забастовка, понятно?!
Вторую ногу тоже в ботинок, теперь надеть берет, и вот, полностью экипированный, он уже у двери.
– Может, ты на него повлияешь? – обращаются ко мне. – Там же снег! И все бастуют!
Но я пожимаю плечами. Бесполезно отговаривать, не послушает (и вообще в доме дубак, лучше уж по улице болтаться).
Я тоже одеваюсь быстро, чтобы не видеть глаз, в которых плещет паника. Она всерьез считает, что жизнь за стенами дома остановилась, там холодно и пусто, как в космосе. Магазины закрыты, школьники сидят по домам, одни обдолбанные африканцы торчат на пустынных перекрестках. Африканцы злые, им нужны бабки, чтоб купить наркоту, а тут мы! К нам, конечно, пристают, мы по неопытности называем детей Африки «неграми», и понеслась душа в рай (в буквальном, можно сказать, смысле).
В последней попытке остановить безумцев она втискивается между нами и дверью.
– Останьтесь, а? Посидим, выпьем чего-нибудь…
Он молча отстраняет ее. Щелчок замка, холодный воздух из дверного проема, и мы на свободе.
– Ну и пошли вы… – слышится в спину. – Когда вернетесь, звоните настойчивее! Я буду спать!
Про общенациональную забастовку мы слышим со дня приезда, мол, страна полностью замрет, даже полицейские не выйдут на работу. Начинала она, затем вступал Свен, и в два голоса семейная пара пыталась застращать пришельцев из того мира, где забастовка – детский лепет в сравнении с остальным. На самом деле она просто не хочет отпускать Ковача. И с нами ходить не хочет, потому что страдает агорафобией.
Ковач движется впереди, иногда скрываясь за пеленой снегопада. Вряд ли мы идем правильно: позавчера вот так же продвигались куда-то, ведомые Ковачем, чтобы оказаться на краю местной географии. Похоже, у него потребность в движении как таковом. Он и дома не может усидеть на месте: то растапливает камин, то чинит скрипящий стул, то листает философские книжки (а то ж!). Или уединяется в мансарде с ней, и тогда кажется: весь дом приходит в движение. Откуда в тебе столько энергии, Ковач? Здешняя жизнь замерла, будто в анабиозе, ты же работаешь, как перпетуум мобиле, не останавливаясь ни на минуту. От такого «мобиле» подзаряжаешься, как от сети в двести двадцать вольт, потому тебя и отпускать не желают.
Проезжая часть покрыта снегом, в лужах поблескивает лед. Собачий холод в этой Бельгии, она похожа на Антарктиду. А Ковач в своем черном плаще похож на пингвина. Говорят, императорские пингвины могут преодолевать десятки километров, но там-то понятно: они идут к воде. А мы куда? Раньше мы любили забредать в кафе или в магазины, теперь же витрины погашены, двери кафе закрыты, а на остановке, где всегда толпились люди, ни души.
– Автобусы не ходят, похоже… – говорю, добравшись до пластикового павильона.
Ковач криво усмехается.
– И поезда не ходят. И заводы стоят. Но это не выход.
– Почему? Люди за бабки бьются…
– В таком случае они обречены.
Фишка в его стиле, такими репликами он доводит Свена до белого каления. То есть, до крайней степени возмущения, раскаляться бельгийский профессор не умеет, так, булькает, но не кипит. Глупый профессор, он ввязывается в дискуссии с Ковачем, которого невозможно переспорить, во всяком случае, на философском факультете, где читает курс мой «пингвин», этого никому не удавалось. Только Свен не знает об этом, в нем просыпается и нудит европатриот, хотя проснуться, по идее, должен кто-то другой. Сказать, что их отношения странные, значит, ничего не сказать. Они «треугольные», причем один угол (профессорский) упорно делает вид, что двух других не существует. Типа не догадывается, что здесь происходит, когда он уезжает на своем «Ситроене» на службу. А может, и впрямь не догадывается. Вроде главный в семье, он на самом деле подкаблучник, и его в любой момент могут прервать или оборвать. Мол, ты в университете – шишка, а дома муж, объевшийся груш, седой и с «колёсами» в пластиковой таблетнице. Случается, они выясняют отношения – почему-то на голландском, хотя проф неплохо владеет великим и могучим (выдрессировали!).
Поехал бы я сюда, если бы знал о «треугольнике» заранее? Сложный вопрос. Наблюдать за ними – еще то удовольствие, только поздно пить боржом, энергия Ковача победила (если учесть, что я сидел на нуле, и ни в какую Бельгию не собирался). Ковач нашел рейс через финнов, на супер-дешевой Rannair, так что перелет оказался копеечным. И жилье оказалось бесплатным, нас даже кормили, да еще и поили, потому что она без спиртного не может. И без Ковача не может, потому он и явился на зов, когда той стало невмоготу. Только философ – он и в Африке философ, и в Бельгии, он никого не слушает и уходит в снежную круговерть, поглотившую вымерший город.
– Зря она с нами не пошла, – говорю, доставая коньячную фляжку. – Если бы она преодолела страх открытого пространства…
Ковач берет фляжку, делает крупный глоток.
– То что?
– Все бы наладилось.
– Нет, – качает головой Ковач, – не наладилось бы.
– Тогда я ничего не понимаю… Зачем ты вообще сюда приехал?!
– Так надо. Считай это моим долгом, если хочешь.
Как скажешь, Ковач. Мог бы отдавать долги в одиночку, конечно, но если я тут оказался, давай шататься по заснеженным улицам, как два неприкаянных пришельца. Мы действительно напоминаем пришельцев, прилетевших после агонии местной цивилизации. Все то ли умерли, то ли погрузились в тысячелетний сон; и вот мы ходим, одни-одинешеньки, изучая наследие тех, кто настроил все эти здания, наставил странных фигур… О-о, какая вычурная постройка! Как она вздымается в небо своими остроконечностями! Не иначе, культовое сооружение, туземцы наверняка молились в нем своим богам. А это что за существо из черного металла? Тонкое, вытянутое, изломанное, припавшее к камню – неужели это здешние жители в своем истинном обличье?! Отпустив вперед Ковача, останавливаюсь возле декадентского памятника, пытаясь представить, как оценил бы его представитель внеземного разума. И прихожу к выводу: охренел бы представитель. С какого ракурса ни взгляни, а боль и отчаяние из этой искореженной фигуры прямо фонтаном бьют!
Преодолев пешком три остановки, оказываемся возле канала. В нем валяются велосипеды – старые, искореженные, с погнутыми рамами и рулями, они наполовину торчат из воды, прихваченной льдом. Здесь даже пришельцем быть не надо, чтобы проникнуться мыслью: все, капец.