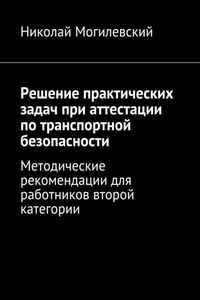Небо… Чего ему хочется? Оно такое серое, смурное, будто тоже сейчас скорбит. Почему оно скорбит? Потому что в такие моменты так положено? Или оно действительно сейчас печалится? Нет, кажется, ему в тягость это состояние. Я вижу где-то там вдали уже пробивается фиолетовая полоса, предвещающая закат, а фиолетовый, он такой яркий, мой любимый, цвет-праздник. Видимо, небо не хочет скорбеть, просто так действительно положено. Небо ждет, когда уже вся эта церемония закончится, чтобы стать наконец фиолетовым.
Холод пробирает до костей. Еще бы, ведь это февраль. И додумалось же это все случиться в самую морозную пору. Не хочу сейчас здесь стоять. Сил нет. Такая слабость, будто бы сама жизнь со своим теплым дыханием покинула меня.
А еще все эти люди вокруг, до боли знакомые, столько дней, месяцев, лет уже стоят у меня поперек горла. Как бесит, когда этот алкаш тянет ко мне свои грязные руки и заставляет надеть капюшон. Я и без него знаю, что холодно, но мне сейчас нет до этого никакого дела.
Когда-то мы с отцом были завсегдатаями на чужих похоронах и поминках. Он таскал меня на эти отвратительные мероприятия, чтобы пожрать на халяву. Отличное место обеда для ребенка, не правда ли? Я была на похоронах и поминках всех местных пьяниц, наркоманов, соседей, родственников соседей… Чьи гробы мне только не довелось увидеть, какие поминальные щи мне только не довелось отведать. А теперь твоя очередь, папа, принимать гостей.
Да, я стою на похоронах собственного отца. Промозглый февраль будто укоряет меня своим холодом. Все так серо, пасмурно и тускло, прямо как у меня в душе. Я не чувствую боли, скорби. Я чувствую пустоту. Бессилие заполнило меня. Не хочется думать ни о чем.
Пришло время прощаться. Все идут поцеловать в лоб тело, лежащее в гробу, потрепать его за ледяную руку, угрюмо постоять над ним. Я не хочу возглавлять эту колонну. Более того, я вообще не хочу подходить. Мне стыдно и страшно, горько и мерзко. Первая пошла моя мама. Да, я не совсем еще сирота, у меня есть мама, но она мама только по буквам в документах, по крови, но никак не по своей душе. Уж и не помню, когда эта женщина положила на меня большой и толстый. А все потому, что ей было плевать, от кого икрить. Она шальная. Я даже сомневаюсь, что у нее есть материнский инстинкт. Мама давным давно ушла от моего отца, за что ее сложно винить. Но она ушла и от меня, за что винить ее я уже имею право.
Мама поцеловала отца в лоб, карусель беспринципных печальных пьяниц потянулась дальше. Я все не хотела идти, боялась. Да и в толпе этих никчемных людей кружить не хотелось. Рядом со мной все это время стояла Настя. Настя, которая была чем-то вроде подруги моего отца, гордившегося ей, всегда делала вид, что оберегает меня, поддерживает, воспитывает. Смешно, но папаша даже разрешал ей лупить меня, когда, по ее мнению, я была неправа. Вот и сейчас эта Настя стоит рядом со мной с видом жалеющего меня человека. Как мне кажется, лицемерка. Я никогда ее на самом деле не любила, только делала вид. И я никогда не могла понять, зачем ей, будучи младше моего отца на добрых лет двадцать водиться с ним.
Черт ее дери, она все же повела меня к гробу!
Мне жутко смотреть: мой папа, такой морщинистый и белолицый, был будто врыт в такие же белые, как и его кожа, покрывала; труп его был таким чужим, непохожим, что казалось, хоронили абсолютно другого человека. Эта мысль преследует меня теперь: а что, если не он лежал в гробу, что, если настоящий Олег Конев, Седой, придет отомстить? Да нет, бред. За него будут мстить теперь только если представители закона.
Все попрощались, молоток забивает гвозди. Этот звук, расходившийся от гроба, был таким едким, железно оповещал о том, что больше этого человека не увидит никто и никогда. Гробовщики спускают ящик с телом в промерзлую землю. Самый дешевый ящик из всех возможных. Потому что денег нет. Как обычно.
Очередная карусель потянулась: надо кинуть землю в могилу в знак последнего прощания. Этот звук еще хуже, чем тот, что издавали гвозди. Я не могу больше все это слышать. Эти лютые звуки уходящего в забвение человека на фоне тишины разъедают мой мозг и разрывают душу.
Наконец-то, закончилось. Гробовщики делают последние движения с лопатами в руках, вставляют табличку, на которой написано, что Олег Конев был рожден 1 марта 1971 года и скончался в возрасте пятидесяти двух лет. Самая дешевая табличка, даже дата смерти на ней не уместилась. Ни ограды, ни креста. Цветов кот наплакал. Мама положила венок, который купил ее муж; Настя и Вика (вторая такая же подруга отца, которая непонятно зачем с ним возилась) положили венок от себя, соседи по лестничной клетке кинули пару гвоздик, а остальные, что остальные… Всплакнули, повздыхали и разошлись, чтобы поскорее нажраться водки за упокой бывшего собутыльника. Конечно, я слышала в толпе осуждения в свой адрес, ведь многие уже знали, что я имела к его смерти какое-то отношение, только не знали, какое именно. Я не обратила на это никакого внимания. Были и те, кто жалел меня. Спасибо им, мне это было необходимо.
Сначала попыталась меня увезти мама , потом Настя с Викой. Я не хотела никого видеть, ни с кем идти. Мне просто хотелось побыть одной на этом пустынном кладбище, внушающем тревогу и страх. Мне уже шестнадцать, я самостоятельная, могу как-нибудь добраться до города. Все разбрелись. Я села на холодную лавку у соседней могилы и уперлась глазами в эту мерзкую табличку с именем моего отца. Фамилию написали, глупые. Надо было погоняло – Седой. Сколько себя помню, практически каждый звал его именно так. Редко к нему обращались по имени, а он и не протестовал, потому что все молодился.
Я сидела одна и думала, что же дальше со мной будет. Ничего хорошего. Из худшего – меня посадят. Может быть, пронесет. Я не думала о том, что у меня больше нет отца, с которым я провела всю свою жизнь. Я думала о том, как моя и без того хромая жизнь искалечена с момента его смерти. Глухой страх за собственное будущее сковывал. Я так боялась, что меня ничего теперь не ждет, кроме пустоты.
Я чудовище: даже не плачу по собственному отцу. Может, потому что он сам все так устроил? Кем был мой отец? Нахлебник практически всю свою жизнь, избивавший престарелых родителей и брата-инвалида; садист, издевавшийся над женщинами, почему от него и ушла моя мать; алкоголик, пьющий паленую водку. Он относился плохо ко всем родным, ко всем, кто мог бы его искренне любить. Зато он был отличным другом. Рубаха-парень, готовый продать ради кого-то последние трусы. Мы жили впроголодь, но его дом всегда был открыт, а сам папаша был готов отдать последние деньги, даже взять кредит в любую минуту, если такое было необходимо всем тем, кто громко звал себя его друзьями. Я с самого раннего детства почти ежедневно наблюдала у себя дома пьяные морды, блюющих людей, голых женщин, вонючих мужчин. Громкая музыка с утра до ночи, с ночи до утра мешала мне спать. Вместо еды в холодильнике была водка.