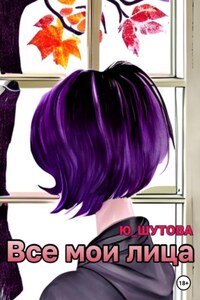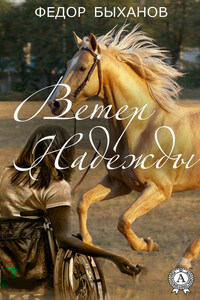Воспитанник детского дома не имеет права унижать честь и достоинство (обижать, оскорблять) других людей. (Правила внутреннего распорядка для воспитанников детского дома).
В первый день у меня украли сапог. Не было ничего горше этой потери. Нашу группу повели гулять, мы доставали свои пальто, шапки, обувь из шкафчиков. Сапог был один. И сколько воспитательница и другие дети не искали – второй так и не нашли. Я сидела и рыдала, повторяя, как заводная игрушка: «Сапог… Сапог…»
Тогда, именно в тот момент, сидя на скамеечке с единственным сапогом в руках, я осознала, что стала сиротой.
Я сирота дважды.
Впервые – сразу после рождения. Отказной ребенок, без имени и фамилии, без предков, прошлого и будущего. Чистый лист. Пустой.
Была ли я счастлива? Такого вопроса дети себе не задают. Я не знала ничего другого, кроме детского дома, не могла сравнить и принимала мир таким, каким он был. Спальня на семерых девочек, нянька и воспитательница, концерты для шефов по праздникам, в которых мы, самые маленькие, танцевали с бумажными цветами или разыгрывали «Телефон» Чуковского. Если бы сравнения были мне доступны, я бы сказала, что это детский сад, из которого нельзя уйти домой.
Может быть уже тогда?
Я расчёсываю свои беленькие волосики перед зеркальцем в умывальной. Сквозь заляпанное пальчиками стекло на меня смотрит девочка – узкое личико, остренький носик, крохотные глазки, ни бровей, ни ресниц, они бесцветные, их не видно. Больше всего девочка похожа на белую мышку. Только глазки не красные. Они тоже почти бесцветные, как жиденький чай, что нам наливают на завтрак.
В пять лет меня удочерили.
Теперь мне кажется, из жалости. Более некрасивого ребенка им было не найти. Вот и дрогнули сердца. Но тогда мне говорили, это потому, что я умничка, аккуратная и симпатичная девочка.
Вот тогда я почувствовала его, счастье. Сразу, как только взяла за руку ещё чужую тётю, которая с каждым шагом, отдаляющим меня от детдома, всё быстрее превращалась в мою маму. Свои собственные мама и папа, свой собственный дом. Своя комната, свои игрушки. Ничего ни с кем не делить. Мне даже купили щенка – крохотную Бусю с нежной шелковой шерсткой. Зеркало – то, что пряталось за дверцей шкафа в моей комнате – показывало мне весёлую девчонку с прорехой в улыбке из-за выпавших молочных зубов. Она крутилась за стеклом то в пёстром сарафанчике и соломенной шляпе, то в джинсиках и курточке из пушистого флиса, то с огромным бантом над белобрысой макушкой и с новым розовым ранцем.
А потом всё исчезло – зеркало и то, что в нём отражалось.
Мы поехали на дачу. А приехали кто куда. Так рассудил бог, или огромный грузовик, вдруг потерявший управление. Папа, мама и Буся уехали на тот свет. А я осталась на этом.
И снова оказалась в детдоме.
И в первый день у меня украли сапог. Сапоги, куртка, ещё какие-то тряпки – то немногое, что связывало меня с утраченным счастьем, то, что ещё оставалось моим собственным. Эту утрату было не пережить.
***
Сапог, Ленка-Сапог. По-другому меня уже и не звали. Хотя нет, неправда. Воспиталки и няньки за глаза звали меня принцессой на бобах. Например, к Восьмому марта или к Новому году шефы привозят подарки. Они разные, рандомный выбор приносит мне какую-нибудь обалденную куклу. Открою коробку и обязательно услышу за спиной:
– Надо же, самая классная игруха этой принцессе на бобах досталась. Ну, вот где справедливость?!
Вся группа гуляет, а я сижу на окне в коридоре, смотрю на них сверху-вниз.
– Ваши на прогулке? – мимо идут две воспиталки из старшей группы.
– Да.
– А ты почему здесь, Лейкина?
– Горло болит, – вру я, не поднимая глаз.
– С подоконника слезь, знаешь же, что запрещено, – они, шлёпая тапками мимо, бубнят вполголоса, – все гуляют, а у прынцессы горлышко болит… Вечно у ней не как у всех…
Я старалась, чтоб у меня было не как у всех. Мы – единая масса. «Все» – наше общее имя. «Все вста-а-али!» – утро началось. «Все пое-е-ели!», «Все в актовый за-а-ал!», «Все на медосмо-о-отр!»
Однажды увидела чемпионат по бильярду в телике. Дядька загнал разноцветные шары в треугольную рамку, и они выстроились «свиньей», как немецкие рыцари перед Ледовым побоищем. Но один шарик, белый, в рамку не лез. Думаете, не помещался? Не хотел! За это дядька долбанул его длинной палкой, и шар понёсся прямо в лоб плотной когорте. Не раздумывая, не пытаясь спастись от столкновения. И пёстрый строй развалился, «рыцари» прыснули во все стороны, разбежались, раскатились.
Я – белый шар, я не вмещаюсь в рамку. И раз за разом я бьюсь своим костяным лбом в плотный строй общей массы. Если все голосуют за, я – против, если все против, я – за. Не важно за и против чего, главное – не так, как все. Если все едут на экскурсию, я прячусь в шкафу, чтобы меня не нашли и забыли. Не потому, что не хочу ехать. Потому что не хочу со всеми. Я прихожу на кружок по рисованию в шапке и получаю замечание – это запрещено. Я уношу стакан с компотом из столовки – замечание. Стоя на кровати, громко пою перед сном гимн России – замечание. Втихаря ухожу погулять и опаздываю на обед – выговор.
Лейкина нарывается! Она допросится! Доиграется! В комиссию по делам несовершеннолетних её!
Надо ли говорить, что меня не любили?
У меня была только одна подруга. Хотя почему была? Она есть. И надеюсь, останется навсегда. Маша Фестивалева по прозвищу Африка, такая же отказница, как и я по первому своему сиротству. Смуглая красавица с кожей чуть в желтизну, подобно страницам старых книг, с курчавой чёрной гривой и чёрными же, маслянисто блестящими из тени густых ресниц, глазами. Дитя русско-арабской дружбы.
Она оказалась моей соседкой по комнате, кроватки стояли рядом. Всего кроватей было четыре, и они жались друг к другу, между ними даже не было тумбочек, те расположились в ногах. Всю первую ночь я поскуливала, прижимая к груди вместо плюшевой игрушки свой единственный оставшийся сапог. Маша, наверно, слышала. Утром она сказала мне:
– Если я подарю тебе свои карандаши, ты больше не будешь плакать? Знаешь, какие у меня карандаши?! – она открыла большую клеенчатую коробку. – Смотри, сколько. И еще фломастеры. И краски. Возьми и не плачь, пожалуйста.
Мы сидели с ней за одной партой. На уроке рисования она попросила:
– Можно я возьму твой карандаш?
Она надавила на слово «твой», и мне открылось: Маша отдала мне своё самое дорогое, то, что было только её, как мой несчастный сапог.