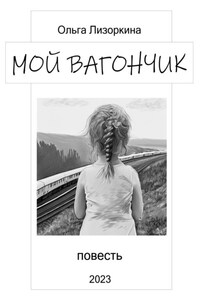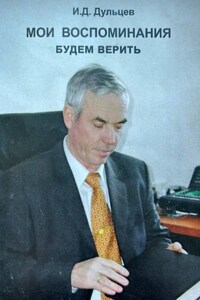Юля, здравствуйте.
Вы просили меня написать предисловие к последней повести покойного Алексея Константиновича Зайцева. Боюсь, что, к сожалению, не смогу исполнить Вашей просьбы. Хоть я и считал Алексея Константиновича другом своим и отчасти даже учителем, последние годы мы общались мало, вернее сказать, не общались вовсе. Мне совершенно неизвестны ни домашние его обстоятельства, ни обстоятельства написания повести «Все мои уже там».
По Вашей просьбе я обратился было к Наталье Генриховне Жовтень, вдове и наследнице Алексея Константиновича, но, к сожалению, ей невозможно было доставить мне о покойном муже никаких известий, ибо болезнь Альцгеймера совершенно помутила разум несчастной женщины. Несмотря на наше многолетнее знакомство, она даже не узнала меня ни на похоронах Алексея Константиновича, ни потом, когда я приехал навестить ее у них в поселке Окленд на Новом Рижском шоссе. Она до сих пор считает мужа живым и говорит о нем, как если бы он был жив, хотя и бросала собственноручно горсть земли на крышку его гроба.
Сергей Парамонов, бессменный водитель Алексея Константиновича, будучи расспрошен мною, показал, что Алексей Константинович, дескать, скончался скоропостижно 30 августа прошлого года в своей постели в Окленде. Впрочем, надо знать беззаветную верность Парамонова: он легко мог и солгать, если ему казалось, что правда компрометирует хозяина.
Таким образом, к повести «Все мои уже там» и к обстоятельствам ее написания у меня больше вопросов, чем ответов. Я даже не понимаю, вымысел ли она или рассказ о реальных событиях. Мне кажется, выдуманные события и персонажи удивительным образом соседствуют в этой повести с людьми, действительно существующими, и событиями, произошедшими на самом деле.
И есть одно обстоятельство, которое совсем уж поставило меня в тупик. Будучи в Окленде, я с позволения Натальи Генриховны и при яростном сопротивлении Сергея Парамонова осмотрел бумаги покойного и главное – электронную почту в его компьютере. Последний входящий е-мэйл и последний отправленный – это и есть известная Вам рукопись повести «Все мои уже там». Многие авторы так делают: пересылают тексты сами себе, чтобы уберечь неопубликованную еще рукопись от сбоев ненадежной компьютерной техники. Здесь нет ничего удивительного. Удивительно другое: Алексей Константинович, как я уже писал, скончался 30 августа. А рукопись отправлена была с адреса покойного и на адрес покойного пришла и 7 октября. Вот загадка!
Юля, простите. Я примерно догадываюсь, как рукопись оказалась у Вас, и понимаю, что Вы не можете просить написать предисловие человека, доставившего Вам повесть. Но и меня увольте: история слишком странная и слишком, кажется, личная для моего покойного друга.
С уважением,
Валерий Панюшкин
P. S. Что же касается идеи Вашего редактора Маши снабдить каждую главу повести стихотворным эпиграфом, то – ей-богу же – идея эта кажется мне слишком вычурной. По-моему, если публиковать, то уж как есть.
Она уволила меня. Вы представляете, эта трогательная сука меня уволила. Двадцать лет я возглавлял если не самый модный, то, уж во всяком случае, старейший мужской журнал в России. Я научил всех теперешних миллионеров вязать галстуки и не рыгать за столом. Впрочем, нет – черта с два научишь не рыгать за столом всех миллионеров. Зато некоторых я научил читать книжки: какие попроще, разумеется – Дэна Брауна и Паоло Коэльо.
А она меня уволила. Без выходного пособия. Без того, чтобы подарить на прощание каких-нибудь акций. Без какой бы то ни было почетной должности, типа «советник Генерального директора по откупориванию шампанского и поеданию устриц». Просто выкинула на улицу, и все. И мне семьдесят лет.
И я – на улице. Я стою возле дверей модного кафе «Иль Джардино», где только что окончились торжественные проводы меня на пенсию. Я одет по всегдашней своей привычке в неброский, но дорогой пиджак Харрис Твид, ибо никакой дьявол не заставит меня пойти ни на какое, кроме похорон, мероприятие, где надо рядиться пингвином. На шее у меня повязан платок Этро, на ногах у меня – ботинки Бали, на руке – часы Патек Филипп. Передо мною у тротуара останавливается мой – в идеальном состоянии – «Ягуар XJ6» 1968 года, последний шедевр великого Лайонса, о котором всякий российский автомобильный журнал написал как минимум дважды. Сережа, видя, что я изрядно пьян, поднимается со своего водительского сиденья, обегает машину и открывает мне дверь. И я залезаю внутрь. Внутри остались еще пара сигар «Ромео и Джульетта» и початая бутылка «Обана», приобретенная в аэропорту Хитроу тогда, когда я еще пытался спасти свое положение.
Я закуриваю дорогую сигару, наливаю в хрустальный стакан дорогого виски, но на самом деле я – нищий. Завтра придется сказать Сереже, что его последнее перед увольнением дело – продать «Ягуар», и парень, конечно, расстроится. Не из-за увольнения даже, а из-за расставания с «Ягуаром». Эту машину Сережа любит больше, чем низкозадую свою жену Татьяну, работающую у меня горничной, и чем Галинку – слабоумную свою дочку с вечной соплей под носом. Татьяну тоже придется уволить, и от гостевого домика, где Сережина семья живет уже двенадцать лет вместе с моими собаками, Сереже придется отказать. Я представляю себе эту трогательную сцену прощания с барином: рыдающая Татьяна наверняка подарит мне напоследок очередные носки, связанные из собачьей шерсти, которую она сама же и прядет.
Состояния у меня нет. Сбережений моих хватит хорошо если на полгода весьма скромной жизни. За эти полгода дом без Татьяны зарастет пылью, все вещи потеряются, и по счетам будет неплачено, просто потому, что я и понятия не имею, как платят по счетам. Когда окончатся деньги, можно было бы сдавать гостевой домик, но много за него не заплатят, и непонятно, куда деть собак, не усыплять же. По-хорошему, нам с Натальей стоило бы самим переехать туда, а большой дом сдавать. На некоторое время это обеспечило бы нам безбедную старость. Ровно на то время, пока кто-то из нас не заболеет серьезнее, чем мы болеем теперь. Это было бы разумно, но, боюсь, мне не удастся объяснить Наталье, почему нельзя больше бесцельно бродить по комнатам большого дома, ронять и разбивать дорогие предметы. Увещеваемая своим Альцгеймером, она, несчастная, продолжает считать себя тридцатилетней красавицей из старинной консерваторской семьи замужем за одним из самых влиятельных людей в московском издательском мире. Боюсь, я не смогу объяснить жене истинное наше положение до того самого дня, пока большой дом не продадут с молотка и пока нас обоих не свезут в хорошо еще, если приличный дом престарелых. При удачном стечении обстоятельств мы будем доживать свои дни в одной комнате, обставленной советской мебелью, которую мы оба так презирали, пока были в силах. Мы будем оба вонять мочой и мрачно ненавидеть друг друга.