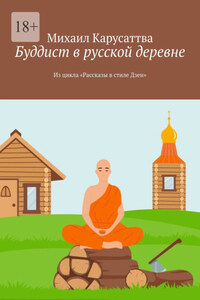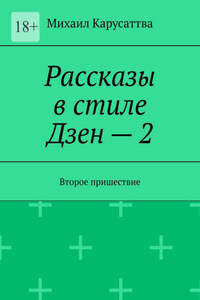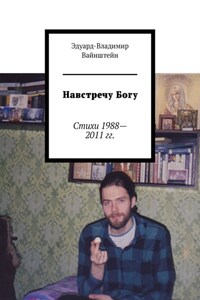Когда я составлял этот сборник, поймал себя на мысли, что, возможно, лучше, чем эти стихи, я уже не напишу. Так невольно задумываешься о скоротечности существования. Ведь нам свойственно надеяться, что всё лучшее – впереди. Но потом оглядываешься и понимаешь, что это просто иллюзия. Что никакого светлого будущего не существует. Что жизнь абсолютно равнодушна к нашим стремлениям. Но это не пессимизм. Это реализм, взгляд на жизнь не затуманенными глазами. И так рождается смирение, не привязанность ни к прошлому, ни к будущему, а примирение с той жизнью, какая есть.
И я верю в то, что лучшие стихи рождаются именно тогда, когда в голове нет иллюзий, когда твой ум не впадает в крайности типа: я добро или я зло? Мы ни добро, ни зло. Мы просто есть. И стихи – это никакая не декламация разумного, доброго и вечного. Стихи – это просто отражение нашего существования, такого, какое оно на самом деле есть: бесстрастное, бесцельное и прекрасное.
Многие считают, что красота цветка лишь в его распускании. Но мало кто видит красоту в увядании цветка. Но я считаю, что для полноценного здорового взгляда на мир надо устранить в уме эту дуальность, и видеть мир прекрасным во всех его проявлениях.
Так многие инкриминируют мне удручённость взглядов, считая это чем-то непрекрасным, и даже патологическим. Но патология – это лишь социальная концепция. Во вселенной же нет никаких патологий. Во вселенной всё – норма. И я – это просто странный цветок, редкий, отличный от других. И чтобы распознать эту красоту, нужно взглянуть на меня без дуальных предрассудков.
Всё случилось, дорогая, очень кстати.
Все напасти наши, горести и беды
были выдуманы нами же отчасти,
проходили вместе с болью до обеда.
Проходили мимо нас чужие гимны.
На руинах чьих-то снов мы жгли трофеи.
С палачами отмечали именины
неродившихся вовеки корифеев.
Мы с тобою слишком выросли из пепла,
слишком видимы мы стали для системы.
Раздражаем глаз её, дразним нелепо.
Может быть, пока не поздно, сменим тему?
Но в глазах твоих я вижу – слишком поздно.
Опоздали мы, примерно, на эпоху.
Что ж, кровать застелим и, богам угодно
принесём вчерашних фруктов и гороха.
С нищих спрос какой? За пазухой у сброда
лишь душа, да государственная тайна.
Их вживили в нас до временного года,
позже вырвут – без известий и случайно.
Нам всего-лишь нужно, милая, до срока
потерпеть немного да скрестить все пальцы,
чтобы какая-нибудь наглая сорока
нашу смерть не спёрла. Ведь тогда – скитальцы
будем мы бродить, как призраки без плоти,
собирать своё прощение по крохам,
люд пугая, доводя их до икоты,
сочинять про смысл бессмысленные строки.
Вот ведь жизнь, что даже в смерти не уверен!
Что уж там про наши грёзы и кредиты.
Всех делов то – закатаем их в пельмени,
и устроим пир на радость троглодитов.
И под шум беснующихся скроемся за лесом.
Я уже одну тропинку там приметил.
Дом построим на костях былых протестов.
Революциям всем – пламенный приветик!
С красным лозунгом по замкнутому кругу —
вон бежит остервенелая орава:
«Всем и каждому погибель по заслугам!»
Нам – с лесным, черничным запахом. По праву.
Нам по праву – тихий шелест крон дубравных,
шум ручья да скрип домашнего порога.
Между чёрных скал, среди могил бесправных —
наш очаг горит за пазухой у бога.
Жизнь, любимая, проста. Смерть – беспристрастна.
Знай – молись, да в печь подкидывай дровишек.
Будем кушать жизнь. А если станет страшно —
на погоду свалим всё и на воришек,
что орудовали в нашем огороде,
да следы свои посеяли на глине.
Всем простили всё, долги вернули, вроде.
Есть минутка – чай попьём, да с ностальгией.
И пошла ведь масть! Аж смерть мы обыграли!
Ту мухлёвщицу ещё с тузом в манжете!
В мрачных дебрях наших душ огни мерцали —
страшных снов, клеймённых солнцем на рассвете.
На рассвете, вот увидишь, будет время.
Верным знамением будут птичьи песни.
По углам, где здравой мысли было семя,
там останутся лишь пауки да плесень.
И несметно поползут все эти слухи, —
для кого-то болью, а для нас – наградой.
Там, где были мы – лишь кривизна разрухи.
Там, где был очаг – лишь дождь, лишённый взгляда.
Недолюбленный день. Недоетый пирог.
Недосказанных слов тишина гробовая.
Я как будто бы в ливень ушёл за порог,
а не я на кровати остался у края.
И не ты крепко спишь на другой стороне.
А во сне твоём ты. Но туда нет дороги.
Этот дождь проливной равен полной цене
за неправильное ударение в слоге.
Недопонятый смысл зреет на потолке,
нависает над нами бессмысленной тенью.
Ты во сне под зонтом в злой безликой толпе,
нагло руки тянущей к горячим коленям.
И не в силах уже ты противиться ей —
многорукой толпе – этой похоти смертной.
Вдруг – ты в доме одна стоишь без дверей
и без окон. И воздух горячий и спертый.
Ты пытаешься выкрикнуть имя моё,
только звук рикошетит о голые стены
и вонзается медленно, как остриё,
разрывая твои напряжённые вены.
Это кровь. Это дождь. Всё смешалось во сне.
Я лежу на краю и не слышу убийства.
Это я щекучусь волоском по спине.
То над ухом жужду как комар кровопийца.
Ты прощаешь меня. Как исправный вдовец
в твоём сне не женюсь на другой и моложе.
Ты лежишь у меня на руках, как птенец,
выпавший из гнезда в человеческой коже.
Но и мёртвая ты всё же веришь и ждёшь, —
мокрый грязный ворвусь я а твой мир сноведений.
И тебе невдомёк то, что я и есть дождь,
за порогом идущий, моля о прощенье.
Куда прийти исхоженным стихам?
Где им найти приют, таким дождливым?
Свалившимся зачем-то с потолка
в мою то не расчёсанную гриву.
Поставить в ряд с поэтами времён?
Как будто слишком смело – средь маститых
на полках продаваемых имён
тесниться им в порядке алфавитном.
Им больше в пору просто погулять
на броуновском ветреном просторе.
Эпитетом неброским просиять.
Глаголом в беспредметном разговоре.
Стихам лежать на полках не к лицу.
Не свойственно. Не очень как-то кстати.
Всё то же, что и самому творцу
среди замысловатых эпитафий.
И эту осень мы, видать, переживём.
Иных, по крайней мере, нету предпосылок.
А про судьбу то оказалось – все враньё, —
она не более, чем крошечный обмылок,
подделка, копия, уродливый с тебя —
ещё и наспех как-то вымученный – слепок.