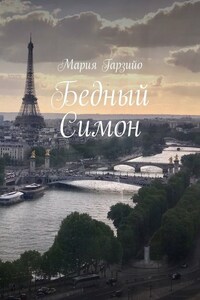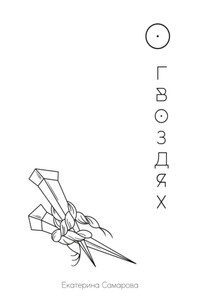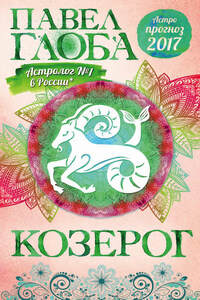Она выходит, тихонько затворив за собой дверь. «Не закрывай!» кричу я, чувствуя, как внутри переворачивается страх. Я боюсь, что она не услышит, уйдет, оставит меня на весь день в клетке опостылевшей комнаты. Когда-то я жила в огромном, многоликом мире, переливающемся яркими красками впечатлений. Теперь он сузился до размеров четырех квадратных метров. Кровать, столик, шкаф и телевизор – вот мои единственные спутники в длинном путешествии по ежедневной рутине. Есть еще окошко. Но чтобы дотянуться до него надо встать и сделать два шага. А такой поход требует сил и мужества. Пока я не нахожу в себе ни того, ни другого. Слава Богу, она услышала. Оставила дверь приоткрытой. Прибавила к моему мирку коридор. Убежала на работу. Не выспавшаяся, немного взъерошенная, с неровно подведенными впопыхах, покрасневшими от усталости глазами. Моя дочка. Стойкая как оловянный солдатик. Это на ее крепкие плечи я свалилась всеми своими наеденными за годы гастрономического разгула килограммами. Она взвалила на себя и не ойкнула. Ни жалобы, ни упрека. Надо, значит, надо. Советское воспитание. Сейчас таких выносливых уже не делают. Вот посмотреть хотя бы на внучку. Пришла с работы и сползла лопнувшим воздушным шариком на диван. Устала. Расстроена. Отвечает сквозь зубы. Ее усталость самая усталая. Впрочем, я предвзято к ней отношусь. Резкие ответы, за которыми кроется не злоба и отсутствие уважение, а выросшая из слепой родительской любви и вседозволенности привычка, пробили брешь в моей нежности. Только я тщательно залатаю ее, как очередное «Ты не понимаешь, бабушка!» рвет тонкие нити. Я не понимаю! Куда мне! Мой век ушел, махнув хвостом перестройки. Настали их времена. Их Интернет, откуда они сноровисто вылавливают все от мобильного телефона до богатого кавалера. Их одежда – обрывки мини, голые пупы и каблуки до небес. Их музыка. Непонятная, нерусская, грохочущая молотком по голове. Мне нет места в этом времени. Я не понимаю. Включаю на полную громкость телевизор. Теперь, когда я осталась одна, сделалась узницей этой комнаты, служившей мне раньше только спальней, телевизор переехал следом за мной, превратившись в самого верного и преданного друга. Праздничный концерт. Как хорошо! Послушаю любимые песни. Русские. Понятные. Дочка велела походить. Я хожу на месте, держась за специальные подпорки. Ноги в последнее время доказали, что доверия больше не заслуживают. Упав несколько раз, я полностью подчинилась жгучему, властному страху. Стоит мне лишь задуматься о том, чтобы встать, он хватает меня крепкой пятерней за горло. «Тебе будет больно. Ты упадешь и больше не встанешь!» шипит он на ухо. Я впиваюсь пальцами в подлокотник дивана. Я боюсь боли. Очень уж частной гостью она стала в последнее время. Нет, похожу попозже. Надо ведь досмотреть концерт. Сегодня праздник. 8 марта. Женский день. Дочка поздравила утром. Прибавила к обычному спартанскому завтраку шоколадную конфетку. Я ее сразу не съела. Отложила в сторону. Посматриваю на нее время от времени, и желудок перекатывается радостью предвкушения. Внучка не нашла времени. Конечно, ее утро самое короткое. Зять заявится попозже с цветами. Это будет традиционная веточка мимозы, которая сменит в вазочке свою предшественницу, демонстрируя своей непривычной живой свежестью, что прошел еще один год. Я выдержала. Дожила. Пушистые желтые шарики расстелят передо мной новую беговую дорожку, обозначив ярким флажком финиш. И я устремлюсь дальше, расталкивая локтями безликую рутину, боль, отчаяние, страх и стыд. Тяжелее всего сносить последнее. Как странно и нелепо задумана наша жизнь. Пробежав круг, мы возвращаемся на стартовую полосу, видоизменившись обратно в беспомощное существо, неспособное самостоятельно покормится и сходить в туалет. А ухаживают за нами те, кого мы сами няньчили, кого кормили из ложечки и кому подтирали попку. Своеобразная плата? Перед ними сморщенными, красными, кричащими разворачивалась длинная, светлая, многообещающая Жизнь. А нас ждет… Впрочем, нет, сегодня праздник, я не буду думать о грустном. Я не желаю произносить даже мысленно это слово. Лучше завернуться в плотный мягкий кокон забытья. Не думать вообще. Ни о чем. Подпевать чуть слышно знакомый куплет. Раствориться на время в бесцветной пустоте. Спрятаться от многочисленного войска болезней, во главе которого уверенно шагает беспощадный командир – Старость. Концерт прерывают новости. Вереница разномасштабных катаклизм. «Сколько раз можно смотреть новости! Все равно же за пол часа ничего не меняется!» недоумевала внучка, когда мы жили все под одной крышей. Ее раздражал мой телевизор, неспешность моих передвижений, мои робкие вопросы. Новости. Как объяснить ей, молодой, активной, ежедневно лавирующей между учебой, работой и свиданиями, что, томясь в тисках обрюзгшего, неповоротливого тела на склоне ярких, переполненных событиями лет, я цепляюсь изо всех сил за последнюю иллюзию деятельности. Мне кажется, что просматривая ленту происшествий, я сама прикасаюсь к ней. Мое серое существование разбавляет красочный мазок. Она не поймет. Как я никогда не пойму ее упрямый максимализм, ее Интернет, ее музыку и одежду. Во времена моей молодости ничего подобного не было. У нас, молодежи послевоенных лет вообще мало что было. Платье одно на комнату общежития. Ботинки из дедушкиного портфеля. Зато была вера. В светлое будущее. Под эгидой партии. А у современных юнцов ее нет. Вообще ни во что. Толкаются, спешат куда-то, сверкая значками доллара в пустых глазницах. Построили себе капиталистическое общество. Все продается и все покупается. Здоровья только не купить. И веры тоже. Мою маму звали Вера. Красивое русское имя. И сама она была красивая. Смотрит на меня с черно-бело фотографии. Взгляд упрямый, уверенный. Папа рядом кажется мягким и безвольным тюфяком. Хотя таким никогда не был. Простой деревенский парень дослужился до министра образования. Ушел из жизни рано. Мужчины вообще слабее нас. Поймает их болезнь, схватит цепко за локоток, они немного посопротивляются для виду, и, размякнув, падают в ее объятия. А нас так просто не возьмешь. Мама до девяноста дотянула. Правда, не узнавала никого под конец. Я так не хочу. Пусть тело, обессилив, сдает позиции, голова у меня все еще светлая. Не позволяю я себе окончательно завернуться в спасительный кокон бессознательности. Пусть в реальности меня окружают заядлые враги – рутина, боль, отчаяние, страх и стыд. Потерплю. Скоро лето. Приедет сын с женой. Он в последние годы окутывает меня трепетной заботой. Во время своих ежегодных визитов не отходит от меня, выбрасывает огромные деньги на лекарства и процедуры. Все мамочка, да мамочка. А раньше, помнится, приедет в гости и пропадет на сутки. Живой, нет, неизвестно. Мамочка не спит ночами, обзванивая морги и хлебая валокордин. Тогда в его жизни главенствовали бутылка, гитара и друзья. Теперь заматерел, женился, поменял ценности. В новую страничку хорошо вписалась любовь к матери. Раньше ей места не находилась, а тут вросла как родная. Впрочем, разве я помню плохое? Стерлось оно из памяти, оставив тонкий карандашный отпечаток. В этом отпечатке и упреки мужа, его вечное недовольство, скандалы. Слезы. Стираю белье и плачу. Все, не могу больше, разводимся. И тоненький голос сына «Мама, а как я скажу ребятам во дворе, что у меня папы нет?» Вытерла слезы рукавом. Забыла про развод. Стерпела. Вот его фото выпало из альбома. Красивый. Молодой. Военный. Встретились на танцах. На мне американское платье из посылки союзников, которое уже переносила вся женская часть общежития. На нем военная форма. Чувствую, что смотрит на меня пристально. Знаю, что сейчас подойдет и пригласит на танец. Подошел. Пригласил. Свадьбу в общежитии праздновали. Сварганили угощения из того, что было. Так ясно вижу эту картину, как будто вчера было. Застывшее мгновение нашего первого танца – одна из нерушимых опор, за которые я держусь до сих пор. Все последующие годы совместной жизни как-то смазались в один пестрый поток, а эта минута за все время так и не потеряла четкости и красок. Затерявшись в воспоминаниях, не заметила, как кончился концерт. Дочка наказывала походить. Надо решиться. Доктор сказал, что если залягу, то это конец. Надо решиться. Конфета поблескивает на столе глянцем обертки. Вот похожу и съем ее. В награду за муки. А ведь бегала когда-то, прыгала, танцевала. Выступала на 9 мая на Красной площади. Не верится, что та тощая попрыгунья могла превратиться в такую неподъемную немощную груду. Пододвигаюсь осторожно к краю кровати. Сердце испуганно вскакивает и ошалело бьется о ребра: «Ей, не надо! Ты что! Будет больно!» «Ничего, потерпим» шепчу сквозь зубы я. Доктор сказал надо. Дочка сказала надо. А надо, значит надо. Ноги, опухшие бочонки испещренные венами, недовольно гудят, почуяв неладное. Я подаюсь вперед, хватаюсь за подпорку. Раз, два, три. Раскачиваюсь перед последним рывком. Ну же, давай. Нет, ноги не слушаются, не держат чрезмерную тяжесть тела. Еще одна попытка. Третья, четвертая. Есть! Получилось. Встала. Сразу же со всех сторон понеслись болевые сигналы. Кряхтит одряхлевший позвоночник. Плачет поврежденное во время последнего падения бедро. Стонут отвыкшие от движения мышцы ног. «Цыц! Надо, значит надо!» затыкаю я их голосящие глотки. Один шаг. Второй. Третий. Хорошо бы сделать десять. Тогда можно со спокойной совестью съесть конфетку и сегодня больше себя не мучить. Пятый, гад, болезненный очень вышел. Еще, немножко, ну, совсем чуть-чуть. Рожать тоже непросто было. И сносить презрение мужа к моим родителям. А тяжелее всего было смотреть, как он гаснет изо для в день, сжираемый изнутри проклятой болезнью. Врачи запретили говорить ему диагноз. Гуманность советской медицины. Я должна была выйти к нему со спокойным счастливым лицом и сказать «Ничего страшного, этого всего лишь грыжа». И ни один мускул не должен был дрогнуть, ни одна слезинка не должна была смочить глаза, выдав тем самым истинный вердикт «Ты умрешь». Я смогла. Умыла лицо. Вытерла. Вышла в коридор с улыбкой. А внутри рыдало отчаяние. Он был непростой. Он умел сделать больно. Но когда пришла беда, все былые обиды отодвинулись на задний план. Остался только он, я, и наш первый танец на том вечере. Шестой! Опять помогла пожелтевшая от времени картинка памяти. Седьмой. Осталось всего ничего. Давай же! Замолчите кости-предатели! Забыли, как носили меня по школе. Сверху вниз по ступенькам. Успеть заскочить к завхозу, узнать насчет ремонта, утвердить с завучем новое расписание, разобраться, из-за чего вышел конфликт на уроке биологии. Вся ответственность на мне. Я – директор. Моя работа занимала восемьдесят процентов моего времени и девяносто моих мыслей. Дочка и сын ревновали, когда я называла учеников своими детьми: «Мы – твои дети!» «Да, вы, конечно, вы». И они тоже. Я помнила все их фамилии, их светлые лица. Запаса любви, которым одарила меня природа, хватало всем с лихвой. Я стремилась согреть своим теплом каждого замерзшего в собственной семье, каждого обделенного лаской и заботой. В этом я видела свое предназначение. И каждый день, наполненный смыслом, озарял мое существование счастьем. Восьмой. Некоторые ученики до сих пор звонят мне по праздникам. Просятся в гости. Это их внимание доказывает, что я не зря оставила в школе четыре десятилетия жизни, большую часть души и все здоровье. Это вложение окупилось. Но в визитах я отказываю. Не хочу, чтобы они видели меня