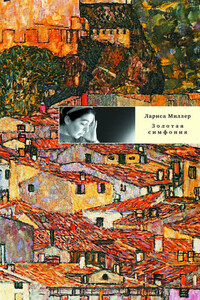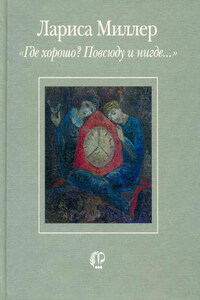Когда читаешь прозу Ларисы Миллер, всё время хочется воскликнуть: да, да! так оно и было! – неважно, о чём та или другая новелла: воспоминания детства или портрет Арсения Тарковского. Это чувство даже не узнавания, а родства, сопричастности каждой детали, желание любоваться каждым воссозданным мигом.
А ведь у нас с Ларисой было разное детство, разный круг знакомств. Отчего же эта радость узнавания? Точность, объёмность зрения, пристальное рассматривание каждого мига бытия. Всё это, вместе со свободной, мягкой и очень искренней интонацией, певучей пластикой фразы, присущей поэтическим её произведениям, и рождает совсем особый, подлинный до сердцебиения, и ушедший навсегда мир, который раскрывается нам на страницах этой книги.
Дина Рубина
Со временем всё проходит: и человек, и эпоха. Наступает другая эпоха, приходит другой человек. Но и он, как и его предшественник, непременно принимается выяснять отношения со временем и пространством. Прошлое, настоящее, будущее – что мы ведаем о них? Знаем ли мы о прошлом больше, чем о будущем? «Медлительность старого доброго времени» прочла я в чьих-то воспоминаниях. Но было ли оно медлительным и добрым? Не иллюзия ли это? И что значит – старое? И не покажется ли нам завтра сегодняшний бешеный темп умеренным и спокойным? И всё же, вспоминая своё детство, думаю о нём теми же словами – «медлительность старого доброго времени»: длинный зимний вечер, матерчатый абажур над столом, за которым бабушка штопает, дедушка читает газету, а я рисую. И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время течёт. А текло оно неспешно и плавно. И я плыла в нём неспешно и плавно, как мультфильмовский ёжик, который, заблудившись в тумане, упал в воду и покорно поплыл по течению. «Я ёжик. Я упал в реку», – изрёк он, глядя на звёзды в ночном небе. Каждый из нас, родившись, попадает во временной поток и плывёт по течению, радуясь всему, что возникает на пути, пока однажды не спохватится и не спросит себя: «Кто я? Куда и откуда? И есть ли здесь дно?» А спросив, не начнёт немедленно захлёбываться и тонуть. Он больше не чувствует себя в реке времени как рыба в воде, и вынужден заново учиться плавать, на что может уйти вся жизнь.
«Row, row, row the boat gently down the stream, merrily, merrily, merrily, merrily life is but a dream…» (Плыви, плыви вниз по реке спокойно и весело. Жизнь всего лишь сон. – Л. М.) – поётся в старой английской песенке, которую обычно исполняют на несколько голосов. Причём сперва поют одни, потом другие, как и положено вступать в реку времени. Только, увы, не получается плыть по этой реке «спокойно и весело». Душа не желает мириться с тем, что «жизнь – всего лишь сон», в котором не существует ничего, кроме изменчивого представления об изменчивых вещах, и, сказав сегодня «я знаю», завтра поймёшь, что тебе помстилось.
Один наш друг, уехавший в Штаты в начале семидесятых, как-то пожаловался своему американскому коллеге: «Вот проблема: без машины до работы не добраться, а водить не люблю. Мне это очень трудно. У меня к машине сложное отношение. Не знаю, что и делать». – «I think, you must change your attitude» (Я думаю, вам надо изменить своё отношение — Л. М.), – посоветовал разумный американец. «Измени своё отношение» – сто раз повторяла я себе, попадая в очередную тупиковую ситуацию. Измени своё отношение к изменчивому и непостоянному миру, в котором смена иллюзий – процесс столь же естественный и неизбежный, как смена времён года. Смести акценты, перенеси ударение с тщетности надежд на тщету отчаяния. Ведь то, что ты с тоской называешь сменой миражей, можно с благодарностью назвать преображением, превращающим каждый новый день в tabula rasa. Время течёт, и ты в потоке. Так плыви без судорог и страха. Плыви, пока время не впадёт в вечность, а ты – в беспамятство. Впрочем, кто знает, куда впадает время и что происходит за пределами земного существования.
Одинокий лист безродный
Проплывал по глади водной.
Лист течением несло.
Было пятое число,
Но оно уже кончалось.
Ветка голая качалась.
Как тебе на свете быть,
Бедный хомо?
Дальше плыть,
Плыть во времени текучем.
Бедный, бедный, чем ты мучим?
Что бы ни было – плыви
С красным шариком в крови.
Московское детство: Полянка, Ордынка, Стакан варенца с Павелецкого рынка – Стакан варенца с незабвенною пенкой, Хронический кашель соседа за стенкой, Подружка моя – белобрысая Галка. Мне жалко тех улиц и города жалко, Той полудеревни, домашней, давнишней: Котельных её, палисадников с вишней, Сирени в саду, и трамвая «Букашки», И синих чернил, и простой промокашки, И вздохов своих по соседскому Юрке, И маминых бот, и её чернобурки, И муфты, и шляпы из тонкого фетра, Что вечно слетала от сильного ветра.
Девочка посыпает солью обледеневшие ступени маленькой прибалтийской гостиницы и поёт. Она катается на одной ножке там, где ещё не посыпано. Русые волосы рассыпаются, закрывая лицо, когда она наклоняется над ведёрком.
«Алёна, тебе не холодно в одном свитере?» – её мать, дежурная по этажу, кричит в форточку. Какой там холодно! Ей в самый раз. Скользя и напевая, она занимается прекрасным делом: создаёт устойчивость, точку опоры. Запустила тонкую руку в ведро, достала пригоршню соли, посыпала ступеньку – вот и почва под ногами. Мои дети с азартом скользят по ещё не посыпанному льду. Алёна спешит туда же, разбрасывая соль. Они перебегают на новое место. Она за ними. Все визжат и падают, сшибая друг друга.
В детстве всё – опора, любая мелочь: старый застиранный бабушкин фартук, который она, кажется, и на ночь не снимает; оранжевый абажур с длинной грязной бахромой; кнопка звонка, до которого дотянешься, только трижды подпрыгнув. Всё это – та же соль, создающая устойчивость.
Родина моя – Большая Полянка. Наверное, никогда не забуду своё исходное положение в пространстве: Большая Полянка, дом 10, квартира 2. Родина моя – купола, «Ударник», Москва-река, Ордынка, Якиманка. На Якиманке жил наш городской сумасшедший по кличке «Груша». У него была вытянутая продолговатая голова и странная манера приседать через каждые несколько шагов. Он шёл торопливой подпрыгивающей походкой и вдруг садился на корточки и озирался со счастливой улыбкой. Так, приседая, он добирался до магазина. Послевоенный магазин – костыли, палки, культяпки, хриплые голоса, орущие дети. А возле прилавка безмятежно сидящий на корточках Груша. И никто его не гнал, не бранил. Магазин называли «инвалидный». В него стекались инвалиды со всей округи. Но я была уверена, что он звался «инвалидный» потому, что по обеим сторонам прилавка стояли однорукие скульптурки мальчика и девочки. У каждой на локте уцелевшей руки висела корзинка с фруктами. И оба, слегка откинув голову, любовались тем, что держала некогда существовавшая рука. Очередь, духота – всё мне было нипочём, потому что я как зачарованная глядела на гипсовых детей.