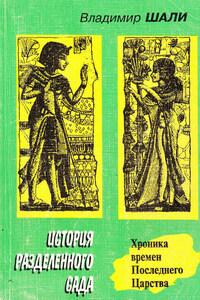Жили-были дед да баба. Долго жили, а сколько точно – только баба знала. Проснётся дед, сядет у порога, глядя на звёзды, а баба станет ему волосы расчёсывать. Сначала поделит на четыре времени года, а потом вместе сплетает в толстую тугую косу. Вот сколько звеньев в косе получилось, столько лет они и прожили.
Возьмёт дед заплетённую косу, поднесёт кисточку к носу и обнюхает внимательно. Нет, ни один волос пока ещё свой край не нашёл, конец не узнал.
– Значит, пора дальше жить, – усмехнётся дед и придумает загадку.
Поднимется на пригорок за околицей и запоёт свою загадку. Заканчивает петь, глаза жмурит и чувствует, как солнышко из-за окоёма показалось, по зажмуренным векам его пальцами своими постукивает, тёплыми да ласковыми:
– Вот уж и я. Не могу разгадать загадку твою!
Дед тогда и разгадку споёт, танцуя на пригорке с солнышком в обнимку.
Правда, бывает, что солнце встаёт обиженное, тучами прикрывает лицо хмурое:
– Совсем загадка простая сегодня, дед! Разленился ты что-то.
Дед и тут знает, что делать: поёт дразнилки, а сам к огороду топает. Солнце – за ним, тучку перед собой гоня. Вроде сердится, а само уже от смеха спрятанного подрагивает. Наконец, не выдерживает, прыскает дождиком на дедов огород. А деду того и надобно: расти, репка!
В ту пору баба слышит – рябая заквохтала-заквохтала… Спешит баба к ней за яичком, вновь снесённым. И пока дед с солнцем выплясывает, да в салочки играет, идёт баба к горячему ручью, окунает туда яичко и ждёт, пока ива дюжину раз головой качнёт.
– Готово дело! – кличет баба деда.
Расстилают по траве рушник, баба чистит яичко варёное и пополам разламывает. Левую половину себе берёт, а правую – всегда деду протягивает:
– Тебе пожирнее, старый, а мне уж попостнее.
Так и пообедают. А потом домой идут, прихватив с огорода немного от урожая, себе да рябой на ужин. Морковку, да редьку, да огурчик, да подсолнуха колесо.
Баба ещё всегда мышке застенной от добычи отсыплет. Дед хмурится, бурчит на бабкино баловство, но не взаправду, а так, для порядку: ишь, мол, каких глупостей бабы навыдумывают! Побурчит, поужинают, глядь – а солнышко и закатилось. Пора дедову косу расплетать…
Когда-то их дни капали один за другим. Так что могли они сидеть вечером плечом в плечо, и вспоминать каждую упавшую каплю, запах её и цвет. И гадать – сколько же ещё осталось?
Теперь не то что дни – годы лились ручьем шумным, и ничего уже в этом шуме разобрать было нельзя. И не хотелось.
Как-то раз случился в их краях этнограф. Очень интересовался, что за песни дед поёт каждое утро. Дело к ночи, солнце уж спряталось, пригласили нежданного гостя в избу. За стол усадили, морс да свёкла. Достал этнограф свой диктофон, кнопку нажал полированным ногтем и слушает, вместе с диктофоном, что дед вполголоса напевает. Вполголоса – это чтобы солнышко не услыхало, да не проснулось раньше времени.
Баба сидит в сторонке, смотрит и диву даётся. В жизни раньше не видала прямых линий или, скажем, кругов ровных. А тут – куда ни глянь. Диктофон весь ровненький, циферблат на этнографической руке – кругленький, буквы да картинки на балахоне его потешном – словом не описать. Очки тоже интересные. Вроде бы прозрачные, но глаза сквозь них невзаправдашние: смотрят в лицо, а заглядывают в душу.
Вдруг баба спохватилась:
– Батюшки, да дело-то к утру уж повернулось, а старый не ложился! Как же он завтра солнце будить станет?
Этнограф покраснел густо, заизвинялся, да за шапку. На ночлег остаться не уговорили – ушёл в ночь. А уходя шепнул бабе:
– Вы деда не будите. Пусть поспит. Солнце и без его песен взойдёт, вот увидите.
Баба оторопела, ничего возразить не смогла. Покачала только головой, поудивлялась чужому вранью, расплела дедову косу, да и почивать. Только сон к ней не шёл. Ворочалась, вспоминала странного человека и странные его слова. Волосы коротки, в косу не заплесть, а туда же, поучает… «А что, если и впрямь?..» – подумалось вдруг бабе, да с этой мыслью и уснула.
Проснулась от квохтания рябой. Разлепила веки и обмерла: солнце гуляло по небосводу, не дождавшись дедовой песни. Старый спал, как заговорённый. Ни солнце в окне, ни рябая, ни бабкины копошения его не разбудили. Вскочила баба и не чуя ног под собой, побежала в стайку, к рябой. Несушка сидела себе как ни в чём не бывало. А рядом с ней лежало только что снесённое яйцо. Яйцо было очень красивым, золотым. Оно матово поблёскивало в солнечных лучах и не грело рук. Баба схватила яйцо и побежала к горячему ручью.
– Хоть что-то по закону сделаю! Глядишь, и уйдёт морок, – не помня себя, бормотала баба.
Прибежала к ручью, бросила в него яйцо. Бросила даже со злобой, какой раньше не знала. Пять дюжин раз качала ива головой, а баба всё не решалась яйцо вынуть. Наконец, перемогла свою боязнь, вытащила яйцо из горячей воды, взяла в руки. А оно – холодное, как и было…
Когда баба вернулась к избе, дед сидел у порога, недоумённо перебирал незаплетённые волосы и не мигая смотрел прямо в солнце, которое не хотело его замечать и даже не высекло ни слезинки из глаз.
Баба дрожа от ужаса протянула к старому ладони с холодно поблескивающей красотой на них. Молчала и ждала.