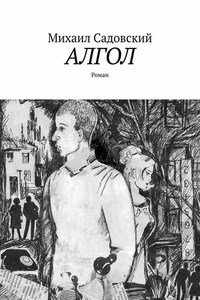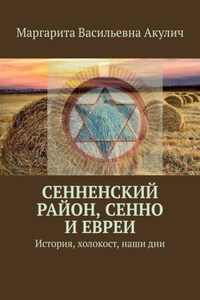– Ты должен об этом написать!
– Почему должен? Почему об этом? Я знаю много других историй.
– Каждый знает много такого, что можно рассказать, но не всё интересно слушать.
– Возможно, но почему именно об этом?
– А что ты имеешь в виду?
– Я? Обыкновенную историю с Сергеем Шаровым. Помните, мы вместе учились, но он был на другом потоке.
– Конечно. Вот и расскажи. Назови его другим именем и рассказывай.
– Я всё называю своими именами, когда рассказываю, иначе не стоит начинать. Вы боитесь, что его узнают в нём же самом? Во-первых, он уже совсем другой с тех пор стал, а во-вторых, мало ли Сергеев и Шаровых на белом свете, и почему бы некоторым из них не быть похожими друг на друга? А если кто-то другой будет похож ещё больше, скажут, что я про него написал, только сменил фамилию. Нет, надо всё всегда называть своими именами.
– Как хочешь.
– Как можешь.
– Но почему же всё-таки должен?
– Ты ещё не понял? Чтобы назвать всё своими именами. Потому что это носится в воздухе, и если не напишешь ты, напишет другой.
– Пусть пишет, может, у него получится лучше.
– Но ведь читатель не знает, что кто-то может написать лучше. В этом счастье. По крайней мере, читательское.
– Ты ошибаешься!
– Отказываешься?
– Нет, хочу понять своё право.
– Права поймёшь, когда прочтёшь авторский договор с издательством.
– На что же вы меня обрекаете? Я ведь читал «Театральный роман», это уж кроме того, что иногда заходил в издательства.
– Разве в этом дело? Пиши.
– Сначала посоветуюсь с Серёжкой.
– Ладно. Мы тебе будем звонить. Книги всегда интереснее рукописи.
– До встречи.
– До встречи.
Он лежал, упираясь локтями в песок и подсовывая растопыренные пальцы под следы, оставленные ещё вчера. Потом медленно поднимал ладонь и внимательно смотрел, как песчинки ссыпаются с растопыренных пальцев и складываются снова в однообразную жёлтую массу. От следов не оставалось ничего. Будто их не было.
Он делал так много раз подряд, и вдруг ему в голову пришла странная аналогия. Это не песчинки – годы. Годы, прожитые каждым человеком. Песчинка – год. Они складывают время, не то безликое, которое отмеряют календари, а живое, тёплое, человеческое. Он сел от неожиданной этой мысли и оглянулся: песчаная полоса тянулась вдоль берега моря, сколько хватало взгляда. Нет, значит, не годы, а дни, нет, даже минуты, каждая песчинка – минута. Он задумался. А может, секунда, прожитая человеком, каждым человеком земли. Давнишние секунды внизу, а свеженькие, новые – наверху. Секунда – песчинка, секунда – песчинка. Их гонит ветер, промывает волна, так же точно, как время гонит и прокручивает человека. Мир вбирает в себя то, что совершено в эти миги, несоизмеримо малые даже с одной человеческой жизнью, но всё же навечно остающиеся в мире. Остающиеся великими открытиями и малыми песчинками. Иначе нельзя. Время не может порваться, оно – бесконечная нить. Клад песка, песчинки, прислонённые одна к другой.
Он сидел совершенно озадаченный этим неожиданным ощущением времени.
Отпуск подходил к концу. Вернее сказать: закончился. Ещё два дня – и снова запрягайся на целый год. Два дня не в счёт – год пролетает, как неделя. Песчинки. Хорошо хоть не разучился думать. Одичал здесь совсем.
– Вик, одичали мы?
– Одичали, Серёга! Пора домой подаваться! Ну его, этот отдых.
– Послушай, а как насчёт кареты?
– Проводнику пятёрка – спишь в его купе, только не платишь за постель и имеешь три матраца!
– Порядок. Ставлю ему ещё полдюжины пива. Курортники за билетами – как в войну за хлебом.
– Помнишь?
– Отец говорил.
– Серёга, кто нас встретит?
– Намёк понял. Её нет в Москве. На практике.
– Ясно. Погуляем на свободе.
– Не обижался и раньше.
– Возможно. Но не было потребности.
– Не стоит об этом. Ты моё мнение знаешь. Я не могу сказать тебе ничего нового. Бесполезно. Жизнь. Песчинки.
– Ты к чему? – удивился Виктор.
– Посмотри, сколько песка! Не то что годы – секунды. Понимаешь?
– Смутно.
– Не все же оставляют глыбы, в основном песчинки. Да и глыбы со временем превращаются в песчинки – ветер, солнце, понимаешь? Да, в каждой глыбе и есть одна главная песчинка.
– Теплее.
– Песчинка – секунда. Но возможно: секунда – глыба, а потом, через двести лет, из одной глыбы триллион песчинок, но нужна одна. Остальные так…
– Больше.
– Не важно, Витька, не важно. Пусть больше.
– Диалектика. Ты философ.
– Кто-то сказал: чтобы стать поэтом, надо прежде выработать свою философию.
– Никто этого не говорил – ты сам это придумал, но ведь ты, слава богу, не собираешься становиться поэтом!
– А вдруг?
– Когда сдашь философию, философ.
– Приеду и сдам.
– А готовиться?
– К чёрту зубрить. Проскочу…
– На эрудицию надеешься! А первоисточники?
– Читаю то, что нравится, не учебник же, в самом деле, сколько ни смотрел – бездарны как на подбор.
– Не стоит огорчаться – пойдём перекусим, до вагона-ресторана ещё дожить надо.
– Пацана позовём?
– Его кормит мама, Серёженька, мама! Вообще, на что он тебе нужен, не понимаю.
– Я из него человека сделаю, а то ведь пропадёт с такой мамой.
– Что бы тебе не заняться воспитанием детей – это очень благородно или в порядке шефства пойти в третий класс вожатым, а?
– Верно, надо будет об этом подумать.
– Пожалуй!
– Знаешь, Витька, человек ведь как колодец. А вода в том колодце чище и вкуснее, из которого её берут больше.
– Верно, но в колодец плюют часто. Просто так, без нужды, потому что попался на дороге. Напьются из него и плюнут.
– А то и просто плюнут. Не замечал? Приглядись. Колодец… А то и вовсе вычерпают до дна, и нет воды больше.
Вера Николаевна жарилась на своём стенде в институте. Наконец были готовы её модели, и она могла проверить, опробовать и оценить все предположения и расчёты. Солнце палило даже сквозь пыльное цеховое окно. За стеной, отрезавшей часть площади цеха под лабораторию, шумели станки. Разогретое в станках масло, мягкий асфальтовый пол в узорах въевшейся стружки – всё давало едкие испарения.
Модели стояли на полу второго этажа в ряд. Одна уже красовалась на месте, пленённая широкими воздуховодами, анализными трубками, проводами термопар и широким асбестовым шнуром. Модель была диктатором, и всё, что находилось здесь, на стенде, жалось к ней и подчинялось ей.
Печь грела немилосердно, то есть ей так и полагалось: греть воздух больше чем до ста градусов. Даже сквозь толстый слой изоляции прорывался мощный сухой жар, сливался с душным воздухом дня и обдавал тело липким потом.
Вера Николаевна рассеянно смотрела на зайчик зеркального гальванометра и думала совсем о другом.