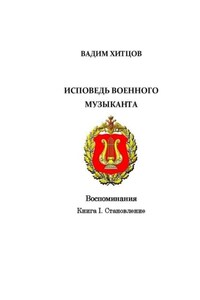До дома оставалось несколько шагов, но они оказались самыми сложными. Возле нашего подъезда было три полицейские машины, машина скорой помощи, а также толпа зевак, плотным кольцом огораживающая меня от причины такого ажиотажа. Едва ли звонок Полины мог вызвать такой резонанс: Виталик уже не первый раз уходил из дома… здесь было что-то другое.
– Это мать, мать пришла, – чей-то громкий голос разрезал тишину. И осиный рой возобновил свое жужжание.
Люди расступились передо мной. Узкий живой коридор открыл впереди клочок тротуара, залитый кровью. Двое мужчин в полицейской форме и женщина в белом халате стояли над чьим-то телом, прикрытым черным пластиковым пакетом. Сотни глаз смотрели на меня, как на прокаженную.
Я опустила голову и сделала еще несколько шагов вперед, чувствуя, как вся жизнь проносится перед глазами. Я не раз представляла себе этот день, но так и не подготовилась к нему.
***
«Этот мальчик не может быть сыном Ромы!» – гаркнула она мне, после чего связь оборвалась. Короткие гудки звенели в ушах, а я продолжала крепко сжимать в руках пластмассовую трубку, не в силах положить ее на рычаг. В спальне истошно орал мой малыш, но я не могла прийти к нему на помощь. Моя жизнь в очередной раз дробилась на части…
В восемнадцать лет из рассудительной и серьезной студентки техникума я в одночасье превратилась в романтичную взбалмошную особу. Мама называла это гормонами, я – любовью. Мы с Ромой познакомились в парке, и он был младше меня. Но нас это не остановило, и мы начали встречаться.
Я заканчивала второй курс, когда мой красный календарь дал сбой. Я беременна. Мысль об аборте я отсекла мгновенно. Это ребенок любви, и я от него не откажусь ни за что. Рассказывать об этом Роме было страшно, но я не могла молчать. Он был первым, кому я об этом рассказала, и эта новость сделала его счастливым. Мы решили пожениться, но… его родители были против. Он берег меня и многого не рассказывал, но он был вынужден уйти из дома. И этот его поступок сказал мне больше тысячи слов. Сказал мне, но не моей маме.
– А что телевизор не работает? – поинтересовалась однажды я, переключая каналы.
– Сегодня у них профилактика. Делай как я: садись и наслаждайся тишиной, скоро нам этого очень не будет хватать, уж поверь мне, – ответила мама. Она сидела на диване, запрокинув голову на спинку. Ее ноги лежали на табурете, и она энергично шевелила пальцами ног, словно отгоняя невидимую мошкару.
– Ты была в детстве просто исчадием ада. Рот не затыкался. А Лидия не особо-то мне помогала.
Лидией мама называла мою бабушку, свою родную мать. Мне это всегда казалось странным, и в двенадцать лет я отстояла право называть ее мамой.
– У нас дома и сейчас никогда не бывает тихо, – отозвалась я. Рука непроизвольно легла на едва заметный живот, мне хотелось защитить свою горошину от неприятных слов и обвинений.
– Не скажи. Сейчас же вот тихо. А потом такого уже не будет, сама увидишь. А кстати, где этот твой дрыщ? У вас с ним все нормально?
Ее пальцы звонко щелкнули от очередной манипуляции. Согнув ногу в колене, она начала гладить ноги, разглядывая свои ступни.
– У нас все хорошо, он сейчас у друга живет.
– Почему? Ой, подожди, дай угадаю, его родители не в восторге от вашей новости, я права?
Она удивленно подняла брови. Прядь гидроперольных волос упала ей на лицо, и она попыталась сдуть ее с носа обратно на висок. Не получилось.
– Да, он хочет попробовать снять жилье.
– А зачем? У него что, есть лишние деньги? Пусть к нам приходит.
Она нехотя оторвалась от своих стоп и поправила прическу. Ее лицо выглядело помятым и опухшим после вчерашней разборки с дядей Сережей, ее приходящим супругом. Он был единственным из ее ухажеров, который неизменно возвращался и к которому я испытывала хоть какую-то симпатию. Но вчера они явно перебрали и со спиртным, и со всем остальным. Мама улыбнулась мне, обнажив свои кривые желтые зубы курильщика.
– Ты это серьезно?
– Ну а почему нет? Не выгонять же и мне вас на улицу? Кто-то должен за это нести ответственность. Пусть это буду я. Но я сразу говорю – это ничего не меняет: я по-прежнему не в восторге от этой новости и не жажду становиться бабушкой, но ты моя дочь, и я от тебя не откажусь. Поняла?
– Спасибо!
С пятого июня мы начали жить все вместе. Это было непросто, но все мы пытались подстраиваться друг под друга. Во всяком случае, так делали я и Рома. Мы старались. Сессия была позади, и мы все время проводили в мечтах о нашем малыше. Я была счастлива и, казалось, ничто не в силах омрачить эти грезы, но… плановый визит в поликлинику заставил меня умываться слезами.
– Ошибки быть не может, мы дважды все проверили, – сказала женщина в окружении своих коллег. – У плода серьезные врожденные пороки развития. Мне очень жаль.
Я сидела перед ними на стуле совершенно одна. У меня не было группы поддержки, не было никого, кто мог бы меня защитить от этих слов. Я смотрела на них, как затравленный зверек, ожидая казни. Сейчас они поднимут свое оружие и уничтожат нас раз и навсегда. Да, именно нас, потому что я не могу отказаться от малыша. Не могу…
– Сложно сказать, какие именно нарушения у плода, но согласно анализам…
– Вы такая молодая, к чему вам все это?
– У вас же вся жизнь впереди!
– Через полгода вы снова сможете забеременеть
– Зачем рожать больного ребенка?
Они говорили все сразу, пытаясь перекричать друг друга, пытаясь достучаться до меня. Но я молча сидела перед ними, обхватив живот руками. Я не хотела, чтобы мой малыш слышал эти страшные слова.
На принятие решения мне дали двадцать четыре часа, хотя, по их же словам, думать в моем случае не о чем. Я ушла, наотрез отказавшись подписывать какие бы то ни было справки. Я сбежала домой к маме и Роме.
– Может, попробовать пересдать анализ в другой клинике? – спросил Рома.
Мы сидели с ним на скамейке у дома и перешептывались, чтобы никто не услышал. Делиться этой информацией с мамой я не рискнула. Моя беременность не была верхом ее мечтаний, и эти страшные подозрения медиков могут легко примирить ее с грехом детоубийства.
– Они сказали, что сделали анализ дважды.
– А о каких патологиях идет речь?
– Я не знаю. Их было так много, и они все что-то говорили и так смотрели на меня. Они хотели меня уже сегодня отправить на…
Я многозначительно округлила глаза: даже произносить вслух это страшное слово мне казалось преступлением. Врачи могут говорить и думать что угодно, но я этого точно не скажу. Никогда.