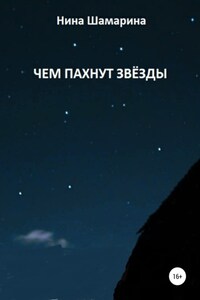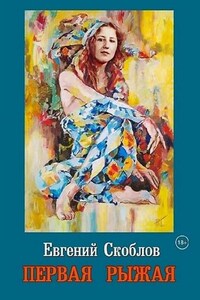Самое мое первое воспоминание не относится к радостным. Не знаю, может, психолог, услышав такое, найдет объяснение каким-либо моим комплексам, но я считаю, что те события, которые я не забываю, запомнились исключительно своей яркости и выпуклости благодаря, а не тем, что имели горестную, а подчас и трагическую основу.
Самое-самое первое, что я помню, это лежащего на столе в ярких цветах и обитом красным ситцем ящике бледного человека. Моя мама, округляя глаза, уверяла, что я этого помнить никак не могу: когда умер ее брат, мне не было и двух лет, но признавала, что все выглядело именно так, как я рассказываю. Как часто, слушая рассказы подросших детей, мы удивляемся: как ты помнишь, ты ж была такая маленькая! Но поди ж ты! Сколько картинок хранит хрупкая детская память.
Вот мы втроем – отец за рулем газика, мама и я на ее коленях – подпрыгивая и ударяясь головой о потолок – катим по ухабистой проселочной дороге. В одно из головокружительных подскакиваний я ударяюсь о металлическую ручку. Губы разбиты, мама прикладывает мне к лицу белейший капроновый шарфик. Он еще хранит тепло ее кожи и запах пудры «Сирень». Вообще, разбитые губы – символ моего детства. Я прекрасно помню их солоновато-металлический вкус от постоянных ранок, лопнувшей кожи.
Странно, что картины прошлого хранятся в моей памяти стационарными виньетками, как открытки, не изменяясь с годами, не развиваясь, и не тускнея. Только теперь кажется, что я помню не событие, а то, как я рассказываю о нем кому-то. Я почти уверена, что эти воспоминания, перенесенные на бумагу, исчезнут, разлетятся, как пепел от сожженной страницы: сначала он держит форму, можно даже различить отдельные буквы, но стоит прикоснуться, как страница обращается в серебристую пыль.
Но некоторые выпрыгивают из глубин памяти только сейчас.
Например, про то, как красят полы. Сначала в доме появляются тяжелые металлические банки с загадочной надписью «Охра»; за чаем (а про вечерний чай написан отдельный рассказ) все чаще возникают разговоры о том, когда лучше красить – утром, перед работой, или в выходной?
Совершенно не помню, в какой день и, главное, как полы красили? Кто? Осталось ощущение зябкости и зыбкости. Двери и окна открыты настежь, по комнатам гуляет сквозняк, одуряюще пахнет краской: запах тяжёлый, резкий, но хочется вдыхать его вновь и вновь. От входной двери до противоположной ей стены на кирпичах покоится широкая пружинистая шершавая доска. Стоя на ее середине, так весело качаться! Но мама гневается (Сломаешь!»), и гонит меня прочь из квартиры на улицу. А назавтра, проснувшись, первым делом ловлю отраженное от блестящих половиц солнце. Мамы нет, она уже на работе, и я трогаю окрашенный пол сначала пальцем, потом ладонью, потом, вскочив на ноги, пробегаю по узким планкам пола как по клавишам: до-ре-ми-до! А той широкой великолепной доски уже нет, только те места, где вчера лежали кирпичи, свежеокрашены. Рядом белеет записка: «Не трогать, не наступать!», но напрасно. На квадратике у маминой кровати навсегда остался отпечаток моего мизинца.
Какой кистью красили полы, я тоже не помню, а вот, что печку белили мочальной кистью, знаю наверняка. Кисть, и правда, была похожа на мочалку, какую мы брали с собою в баню, только та – большая и растрепанная, а эта туго стянута в пучок, с оставленной бахромой на краю.
Печка стояла между кухней и комнатой. Ее плоская спина, обращенная к комнате, служила стеною – зимой теплой и даже горячей иногда. К этой стене в холода ставилась моя кровать, а летом, когда печь топили редко, побелку, стертую с бока печки моим одеялом, приходилось обновлять. Это часто поручали мне, стоило чуть-чуть подрасти. В самый первый раз у меня ничего не получилось. Я макнула кисть в побелку – толченый мел, разведенный водой. Побелка капала вокруг, и я заспешила: с силой провела по печке на высоте своего роста раз и другой. Но печка не стала белее, как я ожидала, а наоборот потемнела, посерела… я снова макнула, и снова провела, и так до тех пор, пока под кистью не обнажились красные отмытые кирпичи.
Много позже я сообразила, что побелка побелеет лишь, когда просохнет, и что белить нужно нежно-нежно, едва касаясь поверхности.
Мочальной же кистью белились, не реже, чем раз в неделю, стены в совхозном телятнике – там работала тетя Оля.
Оглядываясь назад, я изумляюсь: сколько времени я провела в этом «детском саду» телят, сколько всего видела, сколько всего делала: кормила, убирала, загоняла; сколько перечувствовала и хорошего, и ужасного!
Начать с того, что рядом за стенкой находилось родильное отделение, там стояли беременные коровы. Там же привязанный цепью огромный рыжий бык косился на меня темно-фиолетовым глазом, позвякивал кольцом в носу. Его не брали на выпас с остальными коровами: пару раз он «катал» пастуха, едва спасся.
Народившиеся телята, если здоровенькие, сразу вставали на ножки, и в тот же час их переводили в отделение к тете Оле, а корову через пару дней отправляли в коровник, для исполнения основной задачи в совхозе – давать молоко!
Отёл я видела однажды, и то потому, что теленок шел неправильно, задними ножками, и корова никак не могла разродиться. К этим появившимся на свет ножкам с копытцами и в шерсти, привязали веревку и трое взрослых тянули эту веревку изо всех сил, пока теленочек не свалился в подстеленную солому.
Телятник – весь как детский сад – поделен на группы по возрасту: малыши, дошкольники, подростки. У самых маленьких в «ясельной группе» – отдельная клетка-загончик на каждого, у каждого в индивидуальной кормушке блестящий зализанный, как карамель, кусок соли; кормёжка – пять раза в день, через соску, словно у народившегося человеческого детеныша, чуть позже из ведра, в которое мерной кружкой вливалось ровно два литра молока. Телята разного окраса, разного темперамента: некоторым можно оставить ведро и забрать лишь, когда опустеет, некоторые бодаются, поддают посудину крепким лбом, на котором рожки еще не видны, но легко прощупываются и обозначены крутыми завитками шерсти. Таким ведро нужно держать, иначе скинут ненароком и останутся голодными.
Через месяц малышей переводят в группу постарше, здесь у них – один загон на десять голов, одна кормушка – всё общее. Этих выгоняют в хорошую погоду на выбитый копытами пыльный двор с поилкой посередине. Пользы от этих прогулок – только солнце, никакой мало-мальской травинки в загоне не растет. Здесь им раздают «зелёнку» – свежескошенный горох пополам с овсом. После прогулки я загоняю телят обратно, а пока они гуляют, я тоже «пасусь» в горохе. Счастье – когда стручки целехонькие, иногда зелёнка перемалывается так мелко, что не найти и горошины в этом месиве.