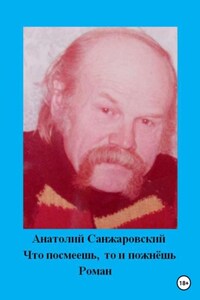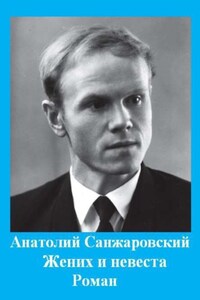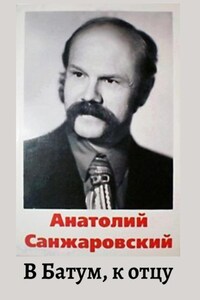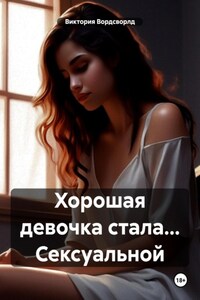Возвращаемся мы с Шукшина[2] – в двери белеет записка.
И Валя, и я потянулись к ней разом, ещё с верхней ступеньки, как только завиделся бумажный уголок в чёрном дерматине двери. Валя оказалась проворней, выдернула записку.
– Ну-ка, ну-ка, – принялась она не спеша разворачивать с весёлым хрустом сложенный вчетверо листок, погллядывая сбоку на меня, выжидательно следя, какое впечатление производит на меня то, что вот она, жена, наконец-то добралась до моих тайн. – Сейчас мы узнаем, что за гражданочки добиваются свиданий с тобой. Признавайся, неверный, дрожишь?
Ладясь не пережать, я в меру вздрогнул, конечно, со страхом на лице, мелко и виновато затряс головой.
Глаза у неё засмеялись.
– Ладно, на первый раз… – Она подала уже вдвое сложенный листок. – Пускай твои секреты, эти твои печки-лавочки, остаются при тебе.
– Не возражаю. Так поступают все образцовые жёны.
Я прочитал записку.
Эта тарабарская грамотка была от почтальонки.
– Надо, – киваю на дверь напротив, – взять в шестнадцатой заказное письмо.
– Да ты знаешь, сколько сейчас!? Выходили из метро в Измайлове – я нарочно смотрела! – одиннадцать было. На автобус не сели, пешком пошли… Под первым снегом… Пока до своего Зелёного… Да наверняка уже за полночь наросло!
Я отомкнул свою дверь.
Не снимая пальто, не разуваясь, Валя радостно процокала по паркету к меркло освещённому с улицы окну.
Повернулась.
– Не зажигай. Скорее сюда! Ну!
На миг мне почудилось, что она летит. Одной рукой она звала-торопила меня к себе, другой показывала за окно.
– Ты только посмотри, что там! О-о-ой!.. Какой куделится сне-ег… Снегу-у-урка…
Я подошёл.
Она молча положила мне голову на плечо, не сводя полных восторга глаз с картины за окном, где всё было снег.
Стояла тихая, безветренная ночь.
Густой лохматый снег толсто мазал, одевал во всё белое размыто освещённый двор и всё во дворе: стоявшие к нам боком легковушки, детскую площадку с грибками и качелями, утыканные скворечниками дубы, березки, клёны. Дотянувшиеся под окном уже до четвёртого нашего этажа груши, плотно обсыпанные снегом, будто кто накинул на них величавые узоры, казались хрустальными.
– Заметь, – тихо заговорила Валя. – Ни в башне справа, ни в башне напротив, ни в хрущобке[3] слева, ни в башне за ней – нигде ни огонёшка! Представляешь, кроме уличных фонарей никто не видит эту красоту. Сони-засони… Да я б за сон в такую ночь ну… штрафовала!.. Утром продерут глаза и ну ахать. Первый снег! Первый снег! А как он шёл, не видели. Всё проспали.
В знак согласия я легонько пожал её локоть – лежал у меня в руке.
– А у нас даже бобинька видел, – почему-то печальным голосом добавила Валя, осторожно пуская доверчивые точёные пальцы в белую жестковатую шерсть на спине у косматого магазинного пуделя, – стоял под рукой на подоконнике лицом на волю. Уши, ноги и хвост у пуделя были коричневые.
Этого пуделя Вале подарили.
В ту пору она ещё ходила в сад, и у неё помимо обычного имени Валя было ещё одно имя, весёлое, звонкое, – девочка Всеха.
Так Валю звали иногда домашние, потому что на каверзный, не без интрижки вопрос взрослых:
– Чья ты, девочка? Мамина или папина?
Валя отвечала каждый раз одинаково:
– Всеха.
Родители втайне дивились, козыряли мудрой, дипломатичной проницательностью хитрули, и, очарованные, захлёстнутые ею до сердца, горячо любили её.
Однажды в получку папа принёс этого космача пуделя с голубым бантом на шее.
Папа поставил пуделя на тумбочку, стал рядом, и девочка увидела, что у пуделя на шёлковой блёсткой ленточке была миниатюрная цветная соломенная корзиночка.
– Валёк-уголёк! – сказал папа. – А что сегодня было!.. Идём мы, – показал на пуделя, – с Найдой с работы лесом, нас догоняет зайка. Говорит: «Передайте, пожалуйста, гостинчик Вале». Ну-ка, девочка Всеха, посмотри, что тебе такое тут зайка передал? А?
Папа указал на корзиночку.
Девочка старательно приставила маленькую свою скамеечку к тумбочке-толстухе, в восторге выбрала из волшебной корзиночки конфеты и в благодарность поцеловала важного пуделя в чёрный пластмассовый нос шишкой.
На другой день Валя убежала из сада в обед.
Ей не терпелось поскорей получить новый зайкин гостинчик.
Девочка несчастно заплакала, когда увидела, что корзиночка пуста.
Вечером пришёл папа.
Смурная Валя сидела на скамеечке у тумбочки.
– А ты что, – спросила сквозь слёзы, – не той дорогой пошёл, раз не встретил зайку?
– Т-той, – потерялся папа.
– Тогда почему ж зайка ничего не передал мне? Я сколько сижу жду… Не несёт…
– Зайка осерчал, что ты ушла из сада раньше срока.
– А если я не стану зараньше уходить, он будет передавать?
– Будет.
Отцу что! Сколько до её загса наносил зайкиных подарков? Отзвонил своё и с колокольни вон.
А я носи до последнего дня.
И – ношу.
Любное дело, охотное, само в душу вьётся: кого любишь, того сам даришь.
Не без моего содействия зайка расширил ассортимент своих звериных услуг.
К обязанностям вечного поставщика сладкостей пришпилено и бремя доставалы всевозможных, а чаще невозможных билетов на редкие концерты, спектакли, выставки…
И конфетами, и билетами от века набита корзиночка. Заёка работает!
Можно немного подсыпать.
Я достаю из карманов свежих теплых конфет, в вахтанговском выстоял буфете.
– Эти, – поверх трюфелей кладу «Белочек», – выменял у белки за горсть орехов. А эти плиточки, – подбавляю «Мишек на севере», – выменял на мёд у самого у Топтыги…
Валя благодарно улыбается.
– А ты, – говорит она, – молодчик, что предложил от «Измайловского парка» идти пешком. И вправду, куда спешить? Завтра как-никак суббота, край недели. Ночь… Лес… Первый снег… Мы одни… Зиму я люблю. В детстве, бывало… Снега в заполярной могильной Воркуте… Наметёт – утром дверей не открыть. Прокапывали в снегу проходы. Как тоннели! Так интересно было в тех тоннелях играть. А то накидает поверх окон да морозец схватит – закрутит лукавый, во весь день с крыш на санках лётаешь. Бедная маманя не докричится к столу. Сначала зовёт мирно, а там уже и с грозой: иди, а то убью и есть не дам! А прибежишь вечером – счастьем вся светится, не знает, чем сперва и угостить…
Валя долго и благостно молчит, стоит слушает, как шуршат по стеклу снежинки.