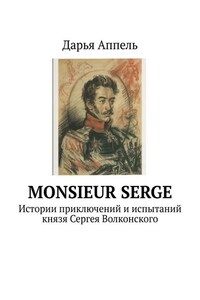СR. Декабрь 1838 г., Флоренция
История приходит и уходит, завершается очередной круг. Мы всего лишь пешки перед нею. И вспомнилось мне то, что произошло лет 500 назад, в страшное и прекрасное Средневековье.
…Магистр Жак де Моле, некогда возглавлявший могущественный Орден, был обвинен во множестве богомерзких поступков. Так, государь Франции Филипп IV, прозванный le Bel (sic!), укреплял единство своего королевства, пытаясь избавиться от «власти над властью». Meister де Моле обвинения признал, но через неделю от них полностью отрекся. К сожалению, ничего не помогло. Наш Орден был разгромлен и распят на том самом кресте, который первые Братья рисовали на знаменах. В алый цвет его окрасила кровь. В черный цвет – пепел от костра, на котором сожгли Meister’а. Владея тайными знаниями, Жак де Моле перед своей гибелью успел проклясть папу Климента, своего обвинителя шевалье де Ногаре, короля и все его потомство до тринадцатого колена.
Папа сгнил заживо. Ногаре захлебнулся собственной кровью. Король погиб на охоте. Весь род Капетингов прекратил свое существование.
Орден объявил Век Молчания и непримиримую войну папской власти. Ведь проклятье распространялось не только на смертных людей, но и на то, чем они владеют.
Спустя 200 лет крест превратился в розу. Камень гроба Ордена был отвален, и под ним никто не найден, а это значит – все Братья живы. Доктор Лютер написал свои тезисы и приколотил их к стене Замковой церкви Виттенберга. С тех пор колесо истории сделало очередной оборот, и трагедии уже сделались неотвратимыми. Папский престол пошатнулся. Было возобновлено строительство Истинного Храма, но до окончания – столько же, сколько для царства Божьего на Земле.
Братья прошлого служили Царям и Иерофантам, хотя и твердили о их гордыне. Так вечно – тем, кто облечен властью над телами и душами, необходимо рабское подчинение. За 500 лет ничего, по сути, не поменялось.
Если перед S.M. (Sa Majesté, Его Величеством) уже стоит кляузник и рассказывает о могуществе нашего Ордена и о том, что я, светлейший князь, генерал от инфантерии, наставник его Наследника и прочее, и прочее, поклоняюсь бесам и составил заговор (а заговоров сейчас боятся не менее, чем 500 лет назад, я бы даже сказал, гораздо более) против Православия и Монархии, я не удивлен. Причина одна – им тоже нужны наши секреты и наши богатства. Но богатства – ничто без тайны. Да и я лишь девятый, а не первый.
Меня будут пытать и спрашивать, кто первый. Будут перечислять имена, которые не имеют к нам ни малейшего отношения, но как я смогу открыть то, что не смогу выразить?
Увы, я умею проклинать. Мне ничего иного не остается, меня загнали в угол, и если я все же буду в Париже, то участи последнего избранного Meister’а не миновать. Я не представляю, что они сделают с теми, кто стоит за моей спиной, если они уже уничтожают все письма и наговаривают про меня не пойми что. Мне уже пришлось заплатить дорогую цену, я не хочу переносить остальных потерь.
По сути, я мог бы проговорить, что у нашего le Bel осталось лишь три колена и менее ста лет, и мои слова бы приняли за проклятье. Но это пророчество слишком хорошо известно, даже один из наших поэтов написал: «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». Как и то, что нынешние Двенадцать падут за 10 лет. И что мое время подходит к концу.
Впрочем, они могут и не трудиться: я слишком болен, чтобы тратить на меня пули, кинжалы и яды. Естество возьмет свое быстрее. У меня не осталось сил на полноценные проклятья и на полноценный отпор. Если им нужна только моя жизнь, и они при этом не тронут Дотти, Поля и Алекса, я буду готов. Но они не торгуются.
Пока я здесь, рядом, на виду Свиты, и никого среди Братьев нет. Так нужно… И есть надежда, что на мне все и остановится.
Приписка рукой княгини Марии Волконской:
/Мой крестный отец св. князь Христофор Андреевич Ливен ушел на Небо через месяц после того, как написал эти строки.
На нем все и остановилось. До поры до времени.
Он составил верность тем, кому поклялся быть верным.
Его последние слова мне: Der elfte ist der nächtste. (Одиннадцатый – следующий).
Я не пойму, что это означает./
CR (1819)
Меня часто спрашивают, узнав, как я начал свое восхождение к власти и каким государем был я наиболее обласкан – «Действительно ли император Павел был безумцем?» Что за наивность задавать такие вопросы – будто бы я отвечу правду! Но, впрочем, кажется, вопрошающие об этом даже не смеют мечтать.
Мой ответ обычно звучит довольно подробно, так, что ни у кого не хватает сил дослушать его до конца. Потому как сказать «да, Россией пять последних лет прошлого столетия правил сумасшедший» было бы слишком опрометчиво, но и начать уверять собеседников в том, что покойный Государь был совершенно здоров и трезвомыслящ, я бы тоже поостерегся. Приходится выбирать нечто среднее, а людям, как правило, неинтересны оговорки, им нужно черное или белое, без полутонов. Жизнь же гораздо сложнее.
Сейчас, когда мы похоронили другого, на сей раз, истинного безумца, являвшегося, пусть и номинально, королем (имеется в виду король Георг III, за которого правил принц-регент – прим. автора), будет мне уместным написать о том, как игры разума власть предержащих влияют на них самих.
Итак, в сугубо медицинском плане Павел Петрович безумцем не был, в отличие, например, от покойного короля Георга, чья душевная болезнь явилась следствием физического состояния. Его разум угасал вслед за угасанием тела. Кроме того, истинные душевнобольные часто проявляют слабость в логических суждениях, их поступки нелепы и странны для каждого. Скажу честно – решения нашего покойного государя были хотя и скоропалительны, и неожиданны, но в них была своя, пусть и извращенная, логика. Он просто хотел уничтожить инакомыслие, как его видел. А видел он его повсюду. Это называют безумием, но стоит вспомнить, как он кончил, что все его ночные кошмары, в конце концов, сбылись, как окажется – нисколько это не безумие. Это называется тиранией. А тиран и сумасшедший – это далеко не одно и то же. Об этом я тоже когда-то говорил с графом Строгановым, и тот произнес, что полагает тиранию родом опасного безумия, на что я отвечал, что, напротив, каждый человек несет в себе зародыши деспота, но не всем дается власть в той мере, в которой ее можно проявить. Стремление к деспотии может быть умерено лишь просвещением, но с ним, как всегда, возникают большие проблемы.
Так вот, с точки зрения Поля Строганова, его царственный тезка был никем иным, как сумасшедшим. С моей точки зрения, он был обычным деспотом, хотя и не безнадежным. От природы он был добр и благороден, и мне часто казалось, что, родись он лет на 500 ранее, да и не в России, а, скажем, во Франции или Британии, то из него бы получился государь-рыцарь, вроде Ричарда Львиное Сердце или Людовика Святого, милость, щедрость и набожность которого прославляли бы в балладах. Павел Петрович и сам это чувствовал, отсюда его желание взять под свой протекторат госпитальеров, более того – сделаться их Магистром, отсюда его живой интерес к нам, рыцарям современности, желание пройти Посвящение, от которого его еле отговорили, отсюда его склонность к мистицизму, строительство замков, белый супервест с алым подбоем за спиной… Но условия, в которых он воспитывался – постоянное пренебрежение матери, считавшей сына копией своего отца, интриги, жертвой которых он часто оказывался, унижения, через которые он проходил – сделали покойного государя таким, каким он стал. Само благородство его и желание изменить жизнь в России к лучшему обернулось жестокой деспотией, главной жертвой которой пал он сам. Но стоит ли называть деспотию безумством? На этот вопрос нет однозначного ответа, и в споре со Строгановым мы остались каждый при своем мнении.