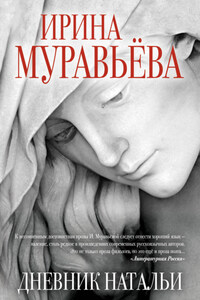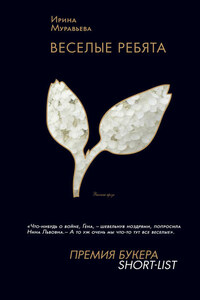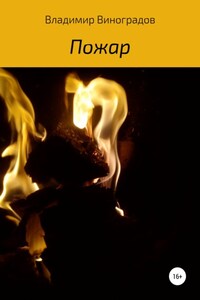15 апреля. Нюра не ночевала дома и пришла в три. Выглядит ужасно: c черными мешками под глазами, измученная. Я смотрю на нее и думаю: что делать? Попробовать опять поговорить с ней? Но сколько можно разговаривать? Она ведь меня не слышит. Никто меня не слышит, кроме Тролля. Иногда приходит в голову, что, не будь на свете Тролля, я была бы ничем не связана. А так – нельзя, он без меня погибнет. Зимой – никогда не забуду – я шла по Смоленской и увидела такое, от чего во мне вся кровь остановилась: свора собак, совершенно одичавших, загнала под машину кошку. Окружили эту машину и сидят. Ждут, пока кошка не выдержит. Минут через пятнадцать кошка выползла – наверное, очень старая, больная, ей уже было все равно. Собаки набросились на нее и разорвали. Люди, которые шли мимо, все отвернулись, никто даже не приостановился, кроме меня.
Тролль – мое счастье, мое тепло. Как он вылизывает мне лицо и руки и мои старые ноги, ужасные старые ноги в тапках!
Может быть, кстати, с ног-то все и началось. В прошлом году мы с Феликсом собрались на дачу к Щ., которого я никогда не любила, но ради Феликса терпела, хотя мне давно казалось, что он шпана, обыкновенная номенклатурная шпана, несмотря на свою знаменитость. И пьесы, которые он пишет, – отвратительное вранье. Возвышенные дамочки в белых шляпах попадают в сомнительные ситуации. Причем за границей, чаще всего в Италии.
Я, наверное, завидую. Иногда я ловлю себя на мысли, что я завидую очень многим: молодым и красивым женщинам, которые проходят мимо по улице, подругам, уехавшим в Америку, завидую умершим…
Мы сели в машину, чтобы ехать к Щ., и вдруг Феликс увидел мои ноги в сиреневых босоножках. Он сморщился, словно проглотил комара, и спросил:
– Скажи, пожалуйста, это что, такая проблема – сделать педикюр?
Я взглянула на себя его глазами. На всю себя – как говорил поэт, «от гребенок до ног». И ужаснулась. Потому что: волосы сухие, вытравленные перекисью, стрижка плохая, шея – в перетяжках, как у гуся, под глазами – лодочки из сморщенной кожи, руки неухоженные. Я увидела старуху, легко раздражающуюся, с плотно сжатыми губами, тускло одетую, молчаливую (о чем говорить-то?), и поняла, что между нами все кончено. Я поняла, что он уже никогда не заметит ничего другого и всегда будет только это: шея, волосы, руки…
Я вылезла из машины, хлопнула дверью. И он быстро отъехал – словно бы с облегчением, словно боясь, чтобы я не передумала.
Мы давно живем молча, каждый сам по себе. У него – своя жизнь, у меня – своя. Cуществуем параллельно. Но когда меня уволили из института, оказалось, что у меня нет никакой своей жизни. Cовсем никакой. Мне некуда стало уходить по утрам и неоткуда возвращаться вечером. Нюра явно тяготится тем, что я сижу дома и мешаю ей заниматься живописью (считается, что она у нас большая художница, вся в папочку!). Кроме того, я позволяю себе переживать за нее. Я переживаю, что она бросила институт, нигде не работает (так, случайные заказы: где рекламу подмалюет, где еще что), переживаю, что у нее богемные и непонятные мне знакомства, что она меняет любовников и часто не ночует дома. Мне все кажется, что ее вот-вот обидят, изуродуют или даже убьют, и часто я часами простаиваю у окна, высматривая ее, когда наступает вечер.
Иногда на меня находят такие острые приступы любви к ней, что впору повеситься, лишь бы не видеть ее отравленного неудачами лица, не принюхиваться к табачному дыму, плывущему из нашей «детской».
Непонятно, кстати, вот что: почему сегодня, пятнадцатого апреля, я вдруг принялась записывать свою жизнь? Тоска, конечно…
Феликс встал часов в одиннадцать, наскоро выпил кофе и, не глядя на меня, сказал, что уходит на весь день в мастерскую. Я вывела Тролля, сходила в магазин, купила йогурт, хлеб и кислую капусту, сварила суп, и тут раздался звонок. Очень красивый грудной голос спросил Феликса. Я ответила, что его нет, но почему-то у меня заколотилось сердце, и я страшно разволновалась. Красивый голос усмехнулся, и в этой усмешке мне почудилось презрение. Тогда я сказала:
– Передать ему что-нибудь?
Вместо ответа она опять усмехнулась – еще презрительнее, но все же очень красиво, музыкально – и повесила трубку. Я набрала номер мастерской, но его там не было, длинные гудки. Я подождала минут двадцать, выпила валерьянки и опять набрала. Он подошел и закричал:
– Алло! Слушаю! Да!
Я помолчала от растерянности (никогда он так не кричит!) и говорю:
– Тебе тут какая-то женщина звонила…
– Да? – спросил он радостно. – Когда звонила?
– Только что, – спокойно сказала я. – Но ничего не просила передать…
Он, видно, справился со своей радостью:
– Ну, так что?..
– Ты собираешься домой? – спросила я.
– Я работаю, – сказал он со злобой. – Ты, наверное, забыла, что это такое?
Намеки! Он все время напоминает мне о моем безделье, все время говорит о том, что один все тянет. Как будто я виновата, что наш отдел закрыли и меня выставили на улицу! Как будто я виновата! И ведь он не только меня попрекает – прямо скажем – куском хлеба! Он все время ноет, что работает как лошадь, ни от чего не отказывается, хватается за все халтуры, чтобы нас прокормить, – он, великий театральный художник! А мы, неблагодарные, ничего не понимаем, загоняем его в могилу. И квартира, в которой мы живем, принадлежала его покойной матери, балерине Большого театра, она на свои деньги построила этот кооператив. А я (будь я разумной!) должна бы сдать дачу, доставшуюся мне от отца и деда. Дворянских гнезд больше не существует. Раз нужны деньги, значит, нечего хлюпать, а надо найти жильцов и сдать дачу. Это он так говорит, а я отмалчиваюсь. Дача формально принадлежит мне.
Сегодня я поняла, что он не просто изменяет, – а то я не догадывалась, что он мне изменяет! – сегодня я поняла, что он влюблен в кого-то, мучается, надеется, короче – у него открылось второе дыхание и моя песенка спета.
Нюра поела на кухне – тарелку не вымыла, спасибо не сказала, – заперлась в своей комнате и затихла. Я постояла у ее двери, прислушиваясь. Кажется, она рыдала в подушку, но, наверное, зажимала рот руками, потому что я различила только сдавленные «а-а-а», больше ничего.
Итак, у меня есть муж и дочь. Муж мой на старости лет влюбился, он при деле и ему не до меня. Дочь моя то ли не может влюбиться и рыдает в подушку, что приходится спать с кем попало (а как же иначе – гормоны!), то ли кто-то не отвечает ей взаимностью, и она от этого бесится. Но оба они – и муж, и дочь – живут, они живые, с ними что-то происходит, а я мешаюсь под ногами и ни одному из них не нужна. Я – мертвая.
У них заговор против меня. Заговор живых против мертвой, людей против тени. Между собой они перекидываются шуточками, Нюра целует отца в щеку, он ей показывает свои эскизы, и все это – мимо меня! Без меня! Поди прочь, тень! Старая, со старыми ногами.