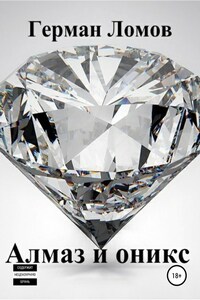Несколько слов о романе
Знаком с прозой и стихами Германа Ломова по его первой книге. Она сразу остановила моё внимание своей предельной искренностью и откровенностью. И это было не самолюбование или искреннее удивление тем, что ты ЕСТЬ на этом свете. Это была вполне осознанная попытка понять себя, найти себя, определить своё место в меняющемся мире.
Первая книга Германа Ломова была скорее поэтическая, чем прозаическая. Она была построена по законам лирическим, хотя прозаические моменты, маленькие рассказы, ярко свидетельствовали о высоких способностях автора именно в области прозы – и ясное видение выразительной детали, и прихотливость ритма, и умение построить естественный диалог, и в динамике показать суть характера своего молодого героя. Всё это в достаточно полной мере проявилось в романе Германа Ломова «Дожить до Июля».
Роман Германа Ломова проза не просто молодая. Это – проза новая. С нею рядом нечего поставить на современном сибирском горизонте.
Нынче, и это прискорбно, и молодые стараются вписаться в поверхностный книжный рынок. Пишут на потребу книжных развалов, которые всё больше и больше напоминают мне мясные ряды.
Герман Ломов занят тем, чем от века была занята русская литература. Он пишет жизнь души – её рождение, становление, искусы, которые возникают на пути живой души к спасению (погибели?).
Интересен мне этот роман не столько внешней стороной, хотя и она любопытна – она свободна, она порою неуклюжа, но это породистая неуклюжесть, выдающая потенциальную силу и красоту. Но больший интерес рождает стремление автора написать современного героя, нового героя, рождённого качественно новыми обстоятельствами жизни. Героя неведомого, потому интересного.
Нечто подобное рождалось в молодёжной прозе шестидесятых годов, но с той разницей, что герой шестидесятых был заквашен на романтике комсомольских строек, на воспевании «комиссаров в пыльных шлемах», на прочей лживой лабуде, как сказал бы герой Германа Ломова. Роднит только стремление к откровенности, однако проза Ломова больше вызывает доверия, ибо она написана без какого-либо расчёта на конъюнктуру, без стремления продемонстрировать лояльность властям (в том числе и писательским).
Единственное стремление автора – честно и на пределе своих возможностей разобраться с душой героя, с его судьбой, с тем, что возникает в общественной жизни после его контактов с общественной жизнью.
Мне очень любопытны вставные главки о «кумирах».
Я остро ощущаю в прозе Ломова драматизм смены «кумиров» для молодых. От Павки Корчагина до Пола Маккартни прошла великая эпоха, подобная отступлению ледника к пределам Полярного круга или наоборот наступлению ледника на субтропические области Западной Сибири. Но это ПРОИЗОШЛО. С этим надо считаться. Надо видеть погоду на дворе и в дождливый день не рисовать на стёклах окон прекрасную солнечную погоду, не обманывать себя тем, чего нет и, возможно, не будет. Надо жить с тем, что есть. Надо понимать – что вокруг нас. Этим и занимается молодой, а он и по жизни молод – чуть за двадцать! – писатель.
У Германа Ломова есть ещё резервы и в плане художественном, и в плане содержательном. Ему ещё на практике постигать прихотливость композиции прозы, постигать богатство языка и его законы, ему ещё предстоит переход (мучительный переход!) от описания собственного опыта к творчеству мира героев, рождённых воображением на основе собственного опыта. Но начало положено и отступать нет смысла и оснований.
Рад, что есть издатели, способные разделить успех автора с читателями.
Рад рождению нового талантливого прозаика на сибирской земле.
Рад тому, что есть возможность ещё раз убедиться – жизнь продолжается.
А Герману Ломову и его герою желаю дожить, выжить и жить, выясняя своё призвание на этом свете.
Александр ПЛИТЧЕНКО
Секретарь Правления Союза писателей России
г. Новосибирск,
14 апреля 1997 года
В один из весенних и дождливых дней мая, стряхнув с зонта первые в году осадки небес, я вошел в двухэтажное неприметное здание по улице девятьсот пятого года.
Вероятно, от волнения, зажав правую полу плаща входной дверью, тихо выругался и стал подниматься на второй этаж по лестнице с настолько узкими ступенями, что каждый работник учреждения почти наверняка был приговорен оступиться хотя бы раз… Забравшись наверх, я оглядев пройденный путь. Внезапно закружилась голова: всё-таки волнение от предстоящей встречи расшатало психику. Учитывая, что желание скатиться вниз по этим, почти невидимым в темноте ступеням было минимальным, если быть честным, его не было совсем, я поспешил отойти от лестницы и устремился вглубь коридора. Затем свернул налево на первом повороте и оказался у цели моего визита – кабинета главного редактора издательства.
Дверь была закрыта, но внутри приёмной слышались голоса.
Я отошел от двери. Было необходимо настроиться на разговор и приготовиться к самому наихудшему: «Послушайте мой совет, молодой человек – Вам никогда не следует писать художественные книги. Как впрочем, и стихи. Может быть, Вы станете великим ученым и еще напишете множество необходимых человечеству научных трудов. Но я прошу Вас еще раз – никогда больше в своей жизни не пишите художественных книг. Эта обязанность не для Вас».
– Такой монолог я не хотел бы услышать в самом страшном сне, – тихо прошептал я, стоя у давно немытого и узкого окна, едва пропускающего редкие солнечные лучи. С окна, тем не менее, капало. Вероятно, оно уже давно перепутало свое истинное предназначение, добровольно приняв на себя исполнение обязанностей ливневой канализации…
Неделю назад я уже посещал это здание. Главного редактора издательства для воплощения моих планов мне порекомендовала мать одного из моих старых, еще школьных, друзей. «Это очень интеллигентный и умный человек», – изложила она своё мнение о нём. Её мнению я верил. У меня до сих пор не было оснований относиться к её мнению скептически. Такие основания отсутствуют и сейчас.
Но неделю назад был я принят довольно прохладно.
– Добрый день, – сказал я тогда. – Я – Ломов. Вам должны были позвонить…
– Здравствуй, – ответил он, ненадолго оторвавшись от каких-то бумаг, разложенных на столе, и рукой сделал соответствующий жест: проходи, мол.
Я прошёл и без разрешения сел на один из немногочисленных свободных от бумаг, папок, рукописей и книг стульев. Он продолжал работать, не обращая на меня никакого внимания. Через пару минут он оторвался от бумаг, потянулся в кресле и наконец перевёл взгляд на меня.
– Принёс? – спросил он без лишних церемоний.
– Принёс.
– Давай. Через неделю заходи.
Я отдал ему книгу. Свою книгу. Свою первую книгу.