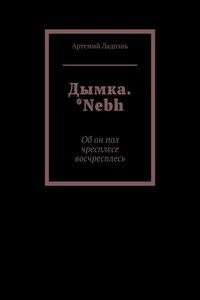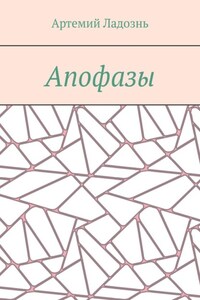Одного ли Вашего покорного посещает легкий ужас от становящейся все более невыносимой облегченности бытия, соделывающей оное весьма бренным? Простые вещи отчего-то достигаются неимоверной ценой. Чтоб объяснить аморфно-теплохладному сознанию разницу меж добром и злом, напомнить радость дружбы и скорбь смешивания души с мраком, потребуется написать толстенный фолиант, который, скорее всего, обречен редким мудрецом остаться понятым. Ведь теперь куда понятнее, ближе дебелому сердцу соревнование ценностных клубов, их состязательно-неспортивная правда, безнаказанность нарушения и злорадство – зря бессилие оппонентов, как и просто наблюдателей, пояснить: в чем неказистость уродства ввиду невмещения оного в формальные определения фола?
Однако, – возразят самоизбранные мира сего, – не провокатор ли ты, братец? Или, хуже того, не простец ли из низшей расы «маглов», холодное презрение к коим есть венец добродетели. Нам ли не знать, что есть «добро», или – о чем полагаема «правь»: последняя – в наших клубных ценностях, которые в самом членстве и состоят; первое же – в мере соответствия, поддержки, служения нам да клубу. Отказавшийся, отступивший – глуп, и сам на себя навлекает всяческие кары. Вот такая изящная парадигма рекуррентной самодостаточности, стройная аксиоматика, опровергнуть которую тебе, разумеется, не удастся. Ибо ты низший. Или же – из высших, если присоединишься и перестанешь артачиться. Мы-де умеем дружить: ведь дружба – столь же экономно-прагматично, парсимонно – определяется поддержкой себе подобных, исповеданьем мнимостей, готовностью всячески противодействовать всем противящимся…
Этак недалек тот день, когда старомодность сочтется равно общественно-опасной – как в случае манкирования пластикой лица либо знакомствами исключительно в сети («в нарушение общепринятых норм и соображений нравственного комфорта общежития»), так и – небрежения покупкой хлеба (если еще не окажется под запретом) ценой нажима сотни клавиш и одобрения тысячи опций, причем с получением от таковых делиберационных издержек полного удовольствия. Опять-таки, в духе соответствия стандартам и чаяньям прогрессивного уклада.
Попутно, продление жизни (или ожиданий сытости и праздности либо креативной малозначительности при рождении) на несколько десятилетий станет куда проще осуществить, нежели создать потенциал потребностей (более не активируемых даже вверх по Маслоу), обрести смысл дальнейшего (изначального!) существования – ровно того, чего бегали на протяжении всей предшествовавшей жизни, истории, эволюции. Которая – опять же, если верить упрощенным, прагматично стилизованным отчетам – давно упразднила актуальность как ума ищущего, так и души чувствующей. Их радостей и скорбей. А главное – их союзов и связей, если только речь не идет о ситуативных коалициях, наполнение коих (собою) стала едва ли не зрелищем зрелищ, заменив либо обобщив спортивные состязания, достижения и – о да! — искания…
Кажется, нечто подобное уже имело место где-то у Бредбери: в исступлении прогрессивном общество приходит к видению корня зол в самой рефлексии, прагматично низводя ложь даже не к эксцессам ея, а к самому допущению, полаганию свободы и жизни в мыслечувствовании. Словно пародируя Екклезиаста, глумясь над Лаоцзы. Но и сия правда обветшала: столь ли необходимо спасение книг, утративших достаточность, будучи упраздненными книгами новыми, пусть и немногими, успевшими умножить зло сингулярной поляризации собственным присутствием? Физкультурой ли лечебной, массажем ли совести восстановится духовный и душевный ампутант, и презумпцией ли авторитета священных Писаний обратятся содомлянин, пустовер?..
Разумеется, коснется прекраснобесие прежде и скорее всего «лучшей» части человечества, тогда как «низшие» продолжат коснеть о «пошлоискательстве». Таковой неблагонадежностью представляя угрозу устоявшемуся консенсусу. Тем самым, ставя под вопрос себя, ответы свои, вопросы…
С другой стороны, много ли правды в попытке написать книгу новую, но с заранее известными выводами? Пусть и не столь сие погрешает перед истиной, в коей свобода, в сравнении со случаями выводов заранее заготовленных, постулируемых исключительно сверху, извне, свысока, так что никакая попытка постмодерновой освободительности, низвергающей святыни и теории, не будет вполне свободна от критики, тая в себе потенциал самониспровержения. Пусть, опять же, не вполне сводятся оные случаи к чистой фикции, произвольному конструированию; а все ж подлаживание вводных данных под выводы неизменно отдают эквивалентом сего.
Не в том ли начало зла и лжи, впускаемых фикциями из ранее намекаемого, что – искони лживы, даже когда избыточно фактажны, испещрены деталями клубных практик (культов, ритуалов вообще), и потому неизменно навязывают клубок ценностей столь же тираничных, сколь иначе не обоснуемых?
Настоящая книга, имея лишь смутный начальный образ бегомого, бесстрашно и нелицеприятно выходит на поиск неизвестного-о-неискомом.
Всегда подозревал – и даже, к ужасу своему, почти не допускал противного, – что существует некий особый, отдельный ад для склонных к профанированию бытия. Собственно, во многом – для писательской профессии; души как природы, согрешающей отнюдь не невольным уклонением от истины, но скорее тщащейся конструировать пути, и судьбы, и суды, на которые уповают в дальнейшем читатели; а будучи посрамлены в чаяньях (не своих, но усвоенных), ропщут на Того, Кто невинен.
Едва ли мыслимо испаскудить, оглупить и охудить текст паче, нежели испещрив его умными словами, даже в эпоху миметичной мемдемии. Но верно и то, что трудно, почти невозможно лгать, напряженно вглядываясь в дымку. Если только вы не Цезарь, мозг запретит вам равно преуспеть на всех этапах мультизадачности. Зато проницать неизреченное удобно, отвлекая блоки сознания чем угодно, но не послушеством на правду. Вопросы в книге этой честны, ибо равны – к себе и другим, своим и чужим, друзьям и врагам, посвященным и внешним.
Вовсе не в упреждение тяжб видоизменяет она наименования реальных и «видных», но и без того ненастоящих людей, сохраняя лишь подлинных, вынужденно прибегая и к тону