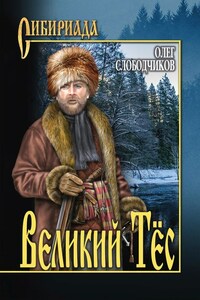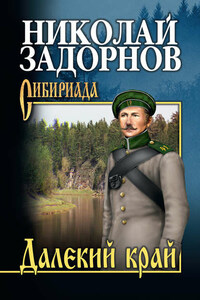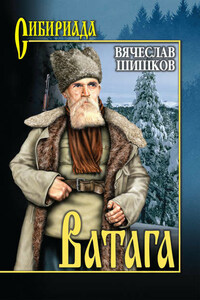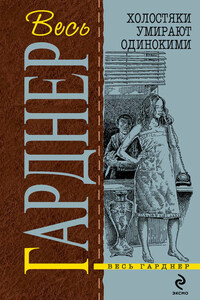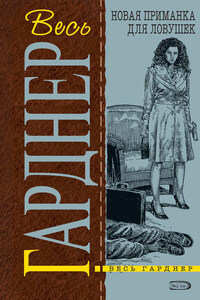Молодой Санкт-Петербург застраивался, хорошел.
Нева, Фонтанка, Мойка, каналы одевались в тесаный гранит. Отечественные и западноевропейские зодчие состязались в искусстве воздвигать величественные дворцы, хоромы вельмож, казенные палаты, храмы.
Многие десятки тысяч крестьян, покинув убогие, под соломенными кровлями, деревни, устремлялись на заработки в Петербург, чтоб скопить деньжонок на уплату оброка помещику. Чрезмерным трудом, ценою болезней, а нередко и смерти, влача зачастую существование беспризорных псов, они с большим радением приукрашали царствующий город.
В иные незадачливые годы, когда лихорадки, желудочные заболевания и другие недуги нещадно косили строительных рабочих, пятая часть их ложилась «костьми» в заболоченные земли Петербурга, и тысячи кормильцев не возвращались к своим семьям.
Рабочий люд стремился в столицу со всех концов страны. Из Белоруссии двигались землекопы, из Ярославской губернии – каменщики, штукатуры и печники, из Костромской – плотники, столяры, из Галичского уезда – «комнатные живописцы» и маляры, Олонецкий край давал мраморщиков и гранильщиков. «Мастера книгопечатания» были главным образом зыряне, выходцы из Вологодской губернии. Тульский край доставлял коновалов, кучеров и дворников, Тверская губерния – сапожников.
Только по одной московской большой дороге ежегодно проходило через заставу в Петербург до двадцати тысяч пешеходов. Да немалое число крестьян приплывало в столицу водой на плотах, баркасах и баржах с грузом строительных материалов.
Еще с зимы разъезжали по деревням мелкие подрядчики из ловких москвичей и ярославцев или приказчики крупных подрядческих контор. С разрешения помещиков они вербовали крестьян, давали им в задаток по рублю на семью, заносили в шнуровые книги, ставили условие быть в столице к пасхе, к началу строительных работ.
С весны Петербург становился оживленным, многолюдным. Через все заставы вливались в город партии крестьян, прибывших со своими старостами на строительные работы. Ежели староста бывалый человек, он вел артель сразу к квартире подрядчика. Большинство же пришельцев с пилами, топорами, сундуками, кошелями, валило на площадь возле Синего моста чрез Мойку, невдалеке от дворца графов Чернышевых. Здесь издавна было нечто вроде биржи труда – место найма рабочих, прислуги, а иногда и продажи рабов. Огромное скопище народу уже часов с четырех утра занимало всю площадь, оба берега Мойки, мост. Одни, сбросив с плеч инструменты, стояли опершись на заступ или заложив мозолистые руки за спину, другие сидели на парапетах, на камнях, а третьи, утомившись, спали прямо на земле, положив под голову берестяный кошель.
Сбитенщики, пирожницы, лоточники, что «под брюхом лавочку носят», сновали между крестьянами.
– А вот сбитню горячего!..
– Кэ-эпченой рыбы!.. Сиги-и, стерляди! Кэ-эпченой рыбы!
– Пирожков крупчатых, пирожков!
Мужики облизывались, сплевывали, крутили бородами – им не до пирожков: эвот полдни скоро, а рабочего народу не убывает… Чего ж это хозяева-то не идут?
Но вот подъезжают, подходят приказчики, мелкие подрядчики. От артелей отделяются старосты, вступают в торг с нанимателями. Торг идет и час, и два. Старосты божатся, бьют себя в грудь, указывают на артель: «Да ты, милый, глянь, какие молодцы-то!.. Да они черта своротят… Прибавляй, не обижай землекопов-то…»
Староста Пров Лукич сбавляет по полтине, подрядчик прибавляет по гривеннику. «Тьфу ты, скупердяй!» – плюет староста и отходит к своим посовещаться. Подрядчик, насулив обидно малую цену, идет дальше.
Тогда вся артель кричит ему:
– Стой, стой!.. В согласьи мы… Эх ты, сквалы-ы-га! Время зря проводить неохота, а то бы…
– А не хотите, как хотите. На ваше место тыщи набегут… Только свистни! – Подрядчик, в синей чуйке, нахлобучивает картуз со светлым козырем и машет мужикам рукою: – Ладно, шагай за мной, ребята!
– Айда, братцы! – И вся артель в тридцать человек зашевелилась.
Артельная стряпуха, курносая, толстощекая, изрытая оспинами Матрена, взвалила на загорбок мешок с добром, продела руки в лямки и приготовилась идти.
– Будите рыжего-то. Ишь, черт, храпит словно у себя на полатях! Эй, Матюха, вставай, дьявол!
– Да никак он нажравшись! Три ему уши хорошенько. Митька, Митька!
Двинулись, расталкивая толпу локтями. Рыжебородого пьяного Митьку ведут под руки; глаза у него закрыты, он с трудом переставляет ноги.
Вот на паре вороных подъехал в великолепном экипаже крупнейший столичный подрядчик Барышников. Не вылезая из фаэтона, он отдавал, приказания двум подбежавшим к нему приказчикам:
– Вы, ребята, за рублем не гонитесь. Сулите цену настоящую – лучше стараться будут. Да и жрать станут посытней – глядишь, и хворости среди них помене будет. А то учнут животами маяться, работы не жди!
– Так-с, так-с, так-с, – подобострастно поддакивали приказчики. – Число душ по спискам прикажете?
– Даже сверх можно! Плотников занадобится первой руки полсотни человек, второй – сотню. Каменщиков – человек триста пятьдесят, достальных по списку.
– Этак, Иван Сидорович, восемьсот душ выйдет, – замечает один из приказчиков, – а подвалов-то у нас снято на четыреста…
– Ну, ежели на четыреста сняли, так туда и всю тысячу вбякать можно. Не господа, не подохнут!
Барышников приказал толстозадому кучеру (в клеенчатой шляпе и в запашном, синего сукна, кафтане с талией под мышками) ехать к Казанскому собору, затем на угол Невского и Владимирской, затем на Сенную площадь и Никольский мост. Во всех этих местах пильщики, маляры, каменщики, чернорабочие каждый божий день терпеливо ожидали найма. Барышников велел своим многочисленным десятникам завербовать не менее двух тысяч человек. Он участвовал в постройке огромного дворца[1] для графа Григория Орлова, а также в облицовке гранитом берегов Мойки.
В позапрошлом году от строительных работ Барышников положил в карман сорок тысяч чистоганом, в прошлом – шестьдесят, а ныне, «ежели божья воля будет», собирается он нажить не менее сотни тысяч. Да еще откупа приносили Ивану Сидорычу огромные доходы. Теперь он был по-настоящему богат.
С тех пор как продал он земляку свой питерский трактир, Барышников заметно пополнел, как будто стал выше ростом; он записался в купеческую гильдию, со вкусом одевался в немецкое платье, имел для выезда карету и четверку кровных лошадей, снимал хорошую квартиру. Теперь Иван Сидорыч больше походил на богатого провинциального помещика, чем на бывшего прасола и дельца, во время Семилетней войны ограбившего графа Апраксина.