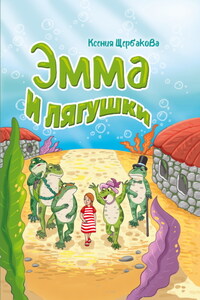Последний штрих кисточки мастера на чувственных губах, застывших в едва заметной и умиротворенной улыбке, завершил филигранную работу над первым в его жизни «полотном». Образ, с которым он ни на минуту не расставался почти всю свою сознательную жизнь, воплотился в лежащей перед ним бездыханной женщине. Удовлетворение и покой обогрели разум уставшего «художника». Впервые за многие годы он избавился от боли, бесконечно терзавшей его неспокойное сознание и покалеченную душу.
Запах красок, тщательно выглаженной одежды, чистого тела и мягких волос, бережно вымытых персиковым гелем, смешался с теплым весенним воздухом, когда он выкатил каталку на задний дворик, чтобы погрузить мертвое тело в черный фургон.
Перед тем как сесть в автомобиль и тронуться, он постоял над ней около минуты с таким отрешенным видом, будто сейчас на земле оставалась лишь его телесная оболочка, помещенная в большую плохо освещенную скорлупу, а разум и душа витали где-то за пределами этого мира, наблюдая картину со стороны. Оглядев свой «шедевр» усталым, но удовлетворенным взглядом, человек в длинном темном плаще еще раз удостоверился, что проделал все манипуляции без помарок, аккуратно потянул за пуллер и до конца застегнул черный мешок для трупов.
Он толкнул каталку в кузов фургона и тихо закрыл двери.
Вернувшись назад, он припарковал машину там же, на заднем дворе, и поднялся в свое жилище. Немного отдохнув, он вышел на улицу и направился пешком неприметными закоулками к одному бездомному, за которым следил уже около месяца.
Бродяга спал в коробке из-под холодильника на своем привычном месте. Он разбудил его пинком ботинка в костлявый бок, отчего пожилой нищий резко подорвался и простонал, испуганно прижавшись к обшарпанной стене из красного кирпича. Заброшенное придорожное кафе с заколоченными окнами, располагавшееся когда-то в одноэтажном здании за его спиной, построенном еще во времена Великой депрессии1, давно покрылось мхом и плесенью в самых уязвимых местах. Одинокая ночлежка, которую бродяга оккупировал в одиночку, источала настолько едкий запах сырости вперемешку с вонью тушки ее постоянного обитателя, что зловоние ударяло в ноздри аж на расстояние десяти футов.
Незнакомец достал купюру в пятьдесят долларов из кармана плаща, ворот которого закрывал половину его лица, и так неразличимого в безлюдных сумерках городской окраины, и протянул ее бродяге. Бездомный удивленно посмотрел на мрачную фигуру нежданного гостя, пытаясь разобрать черты его лица, но из-за ворота и низко натянутой шапки незнакомца разглядел лишь тусклые белки глаз, перепугавшись еще сильнее.
– Ты должен позвонить в полицию из ближайшего автомата, чтобы сообщить о трупе в заброшенном депо в нескольких милях к северу. Ты получишь полтинник, если сделаешь все, как я тебе скажу.
Бродяга оторопел, но быстро собрался с духом и поинтересовался, почему этот человек не может позвонить в полицию сам? Незнакомец спокойным и убедительным голосом ответил, что лучший способ получить пятьдесят баксов прямо сейчас – не задавать лишних вопросов.
– Позвонишь утром на рассвете. Я случайно наткнулся на тело и просто не хочу связываться с копами. С тобой ничего не станет – на кой черт ты им сдался, – а мне вся эта волокита может изрядно подпортить жизнь. Но мы ведь должны сообщить о происшествии, не так ли? Как законопослушные граждане…
Бездомный кряхтя поднялся на ноги и со словами: «Полтинник мне точно не помешает», – взял деньги трясущейся рукой в шерстяной перчатке с обрубленными пальцами. Он засунул купюру во внутренний карман драного, заблеванного пиджака так поспешно, будто сейчас ее заберут обратно – и не видать голодному старику жирного бургера и виски, которые были сейчас главной его мечтой, засевшей в мыслях.
– Не раньше рассвета, – напомнил незнакомец, поправив натянутую на брови шапку. – Сделай, как я сказал, и не вздумай самовольничать, – с угрозой прибавил он, бросив на землю звякнувшую при ударе десятицентовую монету: – Это на телефонный автомат.
И торопливо скрылся за ближайшим углом.
Он поднялся в свою скромную обитель, тяжело рухнул на кровать и долго смотрел в потолок, вспоминая свою «сегодняшнюю работу» в мельчайших деталях. Пытаясь сравнить образы двух женщин, он никак не мог отчетливо разглядеть в своем воображении ту, которая уже давно и прочно захватила его разум, поселилась в нем вечным призраком, напоминанием о далеком прошлом…
Картинки хаотично менялись одна за другой, не давая сконцентрироваться на ее лице. В памяти всплывали события детства, качели на огромном дереве, амбар, громкий хлопок; кисточки с красками, черный фургон, тело, депо и рельсы; покрытое язвами лицо бездомного и неработающий уличный фонарь… В конце концов он смог отбросить в сторону смешанные образы, приложив немалые психические усилия, и она возникла перед ним на фоне яркого света: красивая, с доброй улыбкой, ее белые волосы теребил легкий ветерок, а глаза сверкали подобно голубым кристалликам. Она то махала ему рукой издалека, то оказывалась рядом и нежно обнимала, гладя по голове и одаривая поцелуями влажных губ…
Он просунул руку под подушку, достал потрепанный блокнот в темно-коричневом переплете с ручкой между страниц и записал идеальным каллиграфическим почерком:
7-е апреля, 1979 года.
Сегодня я впервые свершил задуманное. Мы снова были вместе. Она стала как прежде. На целом свете нет никого безупречнее. У нее гладкое лицо, чистая одежда и ухоженные волосы… Моя боль ушла… Эти тени, эти страшные фигуры, проклятые звуки… все исчезло, они больше не приходят и не преследуют меня…
Через неделю эйфория сменилась нарастающим чувством тревоги. Это произошло настолько стремительно и неожиданно, что он запаниковал. По его мнению, погружение в прежнее состояние, с которым приходилось жить и мучиться ежедневно, не должно было произойти вообще. Он надеялся совсем на другое и не планировал делать