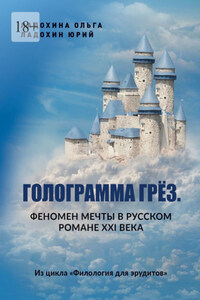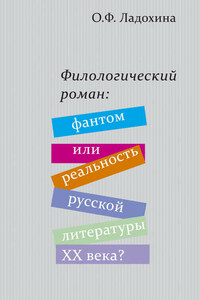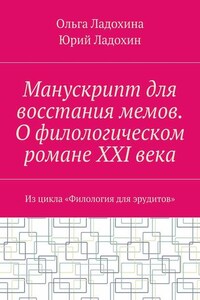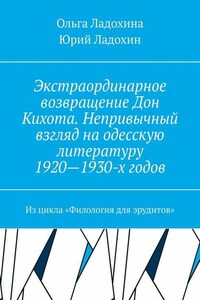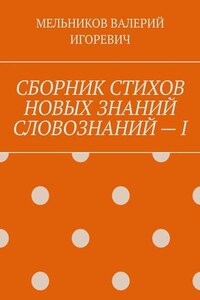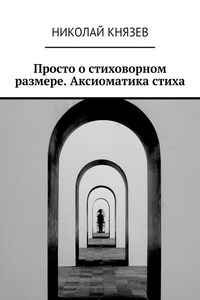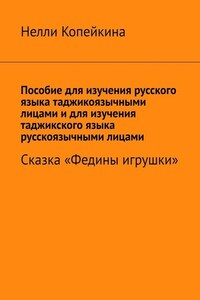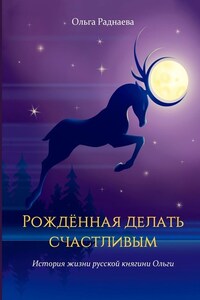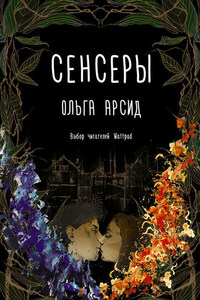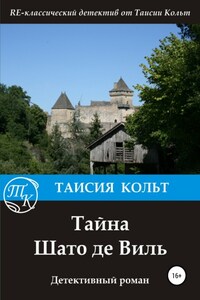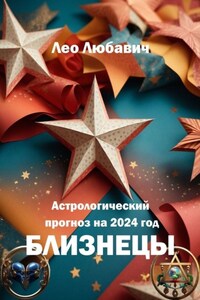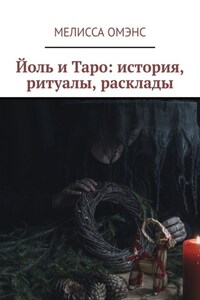1.1. «Летун отпущен на свободу…» (о тех, кто способен оторваться от земли)
«Витает в облаках» – говорят о том, кто замечтался о чем-то, погрузившись в волшебную атмосферу грёз. А если заменить первые две буквы в ключевом глаголе и посмотреть на феномен мечты глазами поэта?:
Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.
Его винты поют, как струны…
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет…
(из стихотворения Александра Блока «Авиатор», 1910 г.).
А если ты впечатлительный двенадцатилетний мальчик, которого отец впервые взял с собой на Комендантский аэродром на окраине Петербурга начала двадцатого столетия?: «Мы приехали с самого утра, потому стоим в первом зрительском ряду. Можем рассмотреть не только аэропланы, но и авиаторов. В тот самый миг, когда я этих людей увидел, я твердо решил, что стану авиатором. Не брандмейстером, не дирижером – авиатором. Мне хотелось вот так же стоять в окружении помощников и, глядя вдаль, медленно подносить к губам папиросу. Так же подкручивать торчащие кончики усов. Перед тем как двинуться к аэроплану, одной рукой застегивать на подбородке лямку шлема. Не спеша надевать очки-консервы…» [Водолазкин 2016, с. 92].
Только это еще не все восторги юного фантазера: «Но главная прелесть для меня заключалась даже не в этом. Меня завораживало само слово – авиатор. Его звучание соединяло в себе красоту полета и рев мотора, свободу и мощь. Это было прекрасное слово. Позднее появился „летчик“, которого будто бы придумал Хлебников. Слово неплохое, но какое-то куцее: есть в нем что-то от воробья. А авиатор – это большая красивая птица. Такой птицей хотел быть и я. Авиатор Платонов. Это стало не то чтобы домашним именем, но время от времени меня так называли. И это мне нравилось» [Там же, с. 92].
Главный герой романа Евгения Водолазкина «Авиатор» – так распорядилась судьба – не стал воздухоплавателем: сначала учеба в Академии художеств, затем арест, работа на лесоповале на Соловках, фантасмагорическая криогенная заморозка, и, наконец, живо-творящая материализация камео библейского Лазаря уже в наши дни…

Но грёзы о полетах не превратились в хрупкий лед (вот она – тема для неутомимых диссертантов!) даже при температуре жидкого азота: «На днях меня спросили: „Отчего вы так беззаветно хотели стать авиатором – это была мечта о небе?“ – Фу-ты ну-ты! Тут ведь не только небо одно, но и другие прекрасные обстоятельства – и шлем, и очки, и усы. Дорогие, опять-таки папиросы. Кожаные, на меху, куртка и брюки. Нужно понимать, что авиаторы были настоящими кумирами, элитой. Хотя и у кумиров были свои слабые места. Так, авиаторы пахли касторовым маслом, которое использовалось для смазки мотора. Особенно – те, кто летал в шубах. А ведь многие так летали: там, на высоте, очень холодно…» [Там же, с. 154].
Впрочем, пожалуй, не стоит о дольнем, если думы – о горнем: «Так вот: мечта. Ну конечно, была мечта о небе. В сравнении с которым (небом) все мы на аэродроме такие маленькие: „А здесь, в колеблющемся зное, // В курящейся над лугом мгле, // Ангары, люди, всё земное – // Как бы придавлено к земле… {из стихотворения А. Блока „Авиатор“} “. Все мы как бы придавлены, вот оно что. А в небе – там все по-другому» [Там же, с. 154 – 155].
Но – вот так штука! – в неизбывную полемику о соотношении земного и небесного готов вмешаться основной персонаж романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Всмотритесь, как о неуемных чудачествах выпускника истфака МГУ Антона Стремоухова отзывался его лучший друг Юрик: «Бредовость своих мыслей об идеальном предметоустройстве в масштабах планеты ты, кажется, с годами просёк. По крайней мере, я давно не слышал твоей чуши про то, что надо выделять из бюджета деньги домовладельцам, чтобы они снесли вдоль шоссе и железных дорог свои грязные сараи и построили чистенькие пакгаузики, как в Тюбингене и Ольденбурге» [Чудаков 2012, с. 371].

Казалось бы, какая проза: после описаний рисковых авиаторов в очках-консервах – сараи, пакгаузы. Но тогда попробуйте – не пожалеете – вспомнить свои ощущения от бесконечно родного придорожного пейзажа из деревенских домов с разнокалиберными пристройками и покосившимися оградами, мелькающего, например, из окон «30-го скорого» Москва – Новороссийск.
Трезвые суждения друга не смогли охладить пыл нашего героя, мечтающего, похоже, приручить мир Хаоса (скажем, подобного тому, что был порожден фантазией блистательного Роджера Желязны): «Юрик ошибался. МНПМ, мания наилучшего предметоустройства мира, продолжала владеть Антоном. Он не только переплетал старые книги и обёртывал новые в день их покупки. В библиотечной книге, которая больше никогда не попадёт ему в руки, друг Юрика подклеивал переплёт, порванные страницы. В пансионате из огромных валунов выложил дорожку к морю. На снятой на два месяца даче чинил забор, стеклил парник, на ржавые ребра хозяйского абажура натягивал ткань от старой шёлковой юбки. И, конечно, развернулся в полную силу, когда появилась собственная дача. Своё неприятие вещного неустройства мира тут он воплотил вполне. Стоило посмотреть на эти панели в сарае, в которых были вырезаны гнезда по профилю каждого инструмента, на клубки тщательно смотанных верёвок, бухты проволоки, разложенные в порядке убывающего её сечения, гвозди всех размеров в плоских ящиках, напоминающих прежние типографские кассы для шрифтов» [Там же, с. 371 – 372].