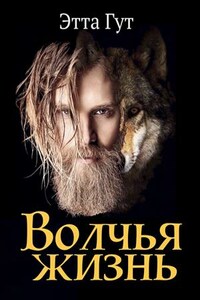Сергей СТЕПАНОВ-ПРОШЕЛЬЦЕВ,
КОГДА ТЫ НЕ САМ ПО СЕБЕ
Нет высшей свободы, чем эта свобода…
* * *
Предзонник. Зона. Шмон. Встречает лагерь
колючкою и на ларьке замком.
Иду в промокшей, порванной телаге
в свою локалку – так велит Закон.
Одна мечта – упасть скорей на шконку,
чтоб позабыть, чтоб утопить во сне
сырой барак, похабную наколку
на сколиозной старческой спине,
овчарок лай и окрик конвоира…
Осточертела эта кутерьма!
Меня мутит, как будто от чифира,
от этой жизни, серой, как зима.
Но даже здесь, среди людского сора,
нельзя простить себе малейший сбой,
чтоб даже в крайней степени позора
быть человеком, быть самим собой.
И зубы сжав, пусть все вокруг немило,
шагать в пургу, в пустую трату дней,
чтоб свято верить в справедливость мира
и полюбить его еще сильней.
Чтоб, словно Феникс сказочный, из пепла
сумел я встать, ещё совсем не стар.
Чтоб эта вера ширилась и крепла,
как искра, превращённая в пожар.
* * *
За бетонной стеной, за решёткой стальной
снова слышится трель милицейской свирели.
Хулиганов становится больше весной,
и штакетник трещит от напора сирени.
Жизнь моя, словно эта хмельная весна,
отшумела, мелькнув только призраком рая.
И удача —обманчива, точно блесна, —
где-то рядом была, не меняя ободряя.
Бьет в намордник окна шалых листьев пурга,
бесконвойные ветры шумят без призора.
И щербинка луны – как улыбка врага,
и звезда в небесах – как свидетель позора.
.
* * *
Город гудел, как улей,
и жизнь у меня была
стремительнее, чем пуля,
летящая из ствола.
Затрещин, обид и премий
отмерив, как и другим,
меня захлестнуло время
арканом своим тугим.
Не думал над каждым шагом,
что будет – я не гадал…
Теперь вот коплю,
как скряга, потерянные года.
Бездельем бездумных буден
томясь, я встаю чуть свет.
И будущего не будет,
и прошлого тоже нет.
Ни цели, ни перспективы,
лишь мухи у потолка.
И время течет лениво,
как медленная река.
* * *
Тюрьма прозрачна. Там повсюду свет.
Глаза повсюду. И повсюду уши.
Там нету мрака. Совершенно нет.
Мрак там сокрыт в людских порочных душах.
Куда ни глянь – везде огни, огни.
И – страх. Он всё упорней и упорней.
И эта светофобия сродни
боязни оказаться в Преисподней.
Но я теперь благодарю тюрьму
за то, что на свободе свет не вечен.
Как я мечтал увидеть полутьму,
которая утешит и излечит!
* * *
Нет высшей свободы, чем эта свобода,
когда ты свободен от власти и денег,
когда не пугает любая погода,
когда ты, как ветер, такой же бездельник.
И сердце парит беспризорною птицей —
ни отчего крова, ни признака боли,
и нет ничего, что могло бы присниться,
и нет тебе дела, что будет с тобою
И лишь за окном облаков белоснежность,
и грустно от их торопливого бега,
как будто последнюю чувствуешь нежность —
прощальную нежность апрельского снега.
* * *
Этот мир не хорош и не плох —
просто жизни прошла половина.
Просто беды застали врасплох,
как сошедшая снега лавина.
Выбит я, как жокей, из седла,
неизвестны совсем перспективы.
Только снег. Только белая мгла.
Только белая молния взрыва.
* * *
Я не станцию —
что-то я больше проспал,
и теперь ничего не вернёшь.
На стиральной доске
креозотовых шпал
мылит путь надоедливый дождь.
Мчит «столыпин».
Он ржавой селёдкой пропах —
нам паёк выдавали сухой.
И песок (но песок ли?)
хрустит на зубах —
это кости, что стали мукой.
Эти кости
на мельнице смерти смолол
предводитель земных палачей.
И уже не селёдкою —
пахнет смолой,
горькой серой из адских печей.
Здесь сосновая глушь.
Мне теперь предстоит
слушать то,
что наш мир позабыл:
не изысканный шёпот
холёных столиц,
а сирену и рёв бензопил.
И студёный январь
в рог бараний согнёт,
сунет мордою в лагерный быт…
Это всё происходит
не только со мной —
вся страна на коленях стоит.
Раньше вольницы были
в тайге острова,
а теперь —
лишь метель и конвой…
Ты прости, что мне снится,
прости мне, страна,
тот безумный,
тот тридцать седьмой.
* * *
Этот счёт не приложишь к оплате —
задолжал я за это и то,
и, коль я никого не оплакал,
то меня не оплачет никто.
Я не знал, где быстрины и мели,
нарезая по жизни круги,
но в душе доброты не имея,
трудно жалости ждать от других.
Не до смеха теперь, не до смеха
я попал в непростой переплёт.
Спохватился, да поздно: уехал
поезд мой на столетье вперёд.
И никто не посмотрит с укором,
всё сокрыто в тревожном дыму,
и машу я, прощаясь, рукою,
вероятно, уже никому.
* * *
Снова кисточка рассвета
в краску алую макает,
вновь от тараканьей этой
я тоски изнемогаю.
Выйти б вновь туда, где брагой
пахнет вольный ветер южный!
Надоело быть оврагом
никому совсем не нужным.
Но другого я не стою,
это, видимо, расплата —
неразлучным быть с бедою
от заката до заката.