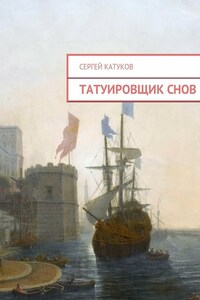1.
Впервые о нем я услышал давно. Странная, нелепая и в то же время спасительная для меня новость. Заброшенная вначале, как мелкая иглистая искра в сено, она долго лежала в памяти и тлела. Но со временем мысли о нем стали приходить все чаще, вращаться все длительнее, и, наконец, уже не давали мне сомкнуть по ночам глаз.
Говорили, что его не существует вообще или есть некто подобный, но рассказы о нем сильно преувеличены. Пойти же к нему было бы невозможной самоуверенностью, и я долго не решался о нем спросить. И постепенно снова забывал.
Но в богемном мире многие его знали. И когда штурвал разговоров среди друзей совершил полный круг, корабль предчувствий повернул на прежний путь бессониц и ночных видений.
– Как мне его найти? – спросил я однажды Лео.
– Ты о татуировщике?
Он стоял вполоборота к окну и, помешивая кофе, пробовал, не остыл ли тот.
Тень от оконной рамы ровным сгибом пересекала крепкую фигуру Лео, его пушкинистое хитрое лицо, густой рыжий левый бакенбард, суровый – рыком хищника – невыспавшийся глаз, фарфоровое яйцо подбородка.
Графическая карандашная тень падала далее через всю комнату на пол косой спиной, поверженной ярким утренним солнцем.
– Я могу спросить о нем. К нему всегда кто-нибудь ходит. Но ты ведь еще не уверен, хочешь ли пойти.
– Нет, я уверен.
Лео поджал губы и посмотрел на рисунок кофейной пенки в чашке.
– Ты не боишься, что твоя жизнь изменится?
– Жизнь меняется каждый день, только мы этого не замечаем.
Он расслабился и посмотрел в окно.
– Тогда лады. Скоро ты с ним познакомишься.
Трудно быть хорошим художником – вообще. А в окружении других художников – еще труднее.
Меня в шутку называли Гефестом – из-за тяжеловесности и излишне тщательной подготовки, которую я уделял картинам.
– Никогда не выставляйся в одиночку, – сказал однажды Лео, – Всегда с кем-нибудь. Зрителю нужно разнообразие.
Он делился ценными советами. Особенно легко они удавались при его успехах на фоне моих кропотливых трудов.
Многие думали, что я ему завидовал.
Нет. Просто у него была хорошая фантазия и твердая рука.
Через неделю, ближе к вечеру, ко мне пришел один из наших общих с Лео друзей.
Я как раз грунтовал холст и размягчал кисти.
– Пойдем, а то у же темнеет, – сказал он, пристально посмотрев мне в лицо.
Я все понял и, отложив кисти, вытер руки.
Мы сели в трамвай и поехали в старый город.
Небо темнело, в окнах появлялись огни, смотревшие, как я буду проезжать мимо них в последний раз прежним, знакомым себе и остальным, человеком.
На одной из остановок, неожиданно возникшей из грохота, друг дернул меня за рукав, пока я отвлеченным взглядом беседовал с островком светлого неба. Голубого, с вечерней сизеватостью, окруженного рыхлыми облачками. Мы быстро выбежали.
Попав под прозрачный колпак ржавого фонарного света, накрывавшего остановку, я увидел возле лампы дрожащую сетку насекомых, плененных ее тусклым светом.
Можно было подумать, посмотрев на это чрезвычайно карликовое, утрированное солнце и темноту вокруг него, что мы оказались не в центре большого, шумного мегаполиса, а в далекой галактике провинциального городка, в котором ночь стирала границы жилых окраин.
Пошли темным и глухим, как водосточная труба, переулком.
По сторонам дороги стояли, заглохшие в губчатом пространстве садов, старые особняки.
Вошли в большой внутренний двор одной из усадеб.
Его наискосок прорезала дорожка, в основании которой изразцовые, позапрошлого века, почти стершиеся плитки, заиливались земляным медленным приливом.
В глубине двора-сада светился старой посеревшей штукатуркой дом, выдвигая перед нами поросшее каменное крыльцо. Его квадратные волны ступеней скатывались в темноту травы. И я подумал, что ночь приходит снизу и земная поросль принимает ее первой.
В доме – древнем, особняковом, дворянском, полуразваленном рыдване, – еще все-таки теплился живой огонь – точно в остаток стеклянного разбитого, исколотого окнонного уголка смотрело заходящее, горькое, багряное солнце.
Внутри – глухо. Стены мертвы, как сваленные лицом вниз статуи.
Пройдя глубоко внутрь дома, следом за своим проводником, я оказался перед широкой двустворчатой дверью. Она не могла закрываться плотно, потому что здание, стремившееся внутрь себя, в центр, словно каменный водоворот, исказило линии стен. И створки, уже давно, может быть, лет сто назад, сошлись на общем решении закрываться не совсем, а только своими верхними частями. Снизу, из острого пустого треугольника сочился истрепанным, бархатно-рваным одеялом воздух оттенка красноватого чая.
Я посмотрел в лицо друга и вошел.
2.
Комната была мастерской.
Большая, словно старая разбитая лохань, чьи края заваливались в темноту, а резкая трещина света голой, не смягченной абажуром, лампочки разбивала ее по днищу на две несоразмерные части.
В темноте стелилось тряпье, багеты, пустые рамы, надевшие на себя обнаженную пустоту.
На половине, где освещение более властно захватывало комнату, – длинный стол, заваленный холстами, между которыми сквозили полотна досок.
На холсты тяжелыми кайлами брошены якори молотков, удерживая тени призрачных кораблей, вытянутях по шероховатой побелке стен.
Большой верстак. Зубила, напильники, надфили, пилы, точильный круг, струбцина, металлические кудряшки оборванных лобзиковых пилок, разобранные рубанки, оселок, тиски, ровно оторванные куски шлифовальной бумаги, осыпавшей вокруг себя мелкие асфальтовые крошки.
Деревянные чурбаки, бруски, колоды, заготовки разных форм и размеров замерли клоунадой древесного анатомического театра. Спящие неразобранным тяжелым сном болванки: мумии будущих кукол, грубые куколки изящных статуэток, теплые золотистые хризалиды сосновых пластинок, из которых распустятся вееры реек…
За столом, спиной ко мне, ворочая локтями, с завязками рабочего фартука на пояснице, стоял человек. С маленьким и широким, как пень, телом, на котором стоял пень чуть меньшего размера – голова, неподвижная и бесшейная.
– Зачем пришел? – спросил он меня нерусским, крикливым голосом.
Я шагнул вперед.
Перестав работать, он едва повернулся.
– Я думал, что вы знаете…
– Что ты хочешь? – последнее слово произнеслось как «хэчэшэ», гортанным, холодным и негибким тембром. Он повернулся еще немного – как тяжелая деревянная колода.
Это был низенький старый татарин, с плотным, словно скрученный матрац, телом. Чрезмерно большая голова лежала тяжелым основанием на квадратных плечах. Фигура степной каменной бабы, поставленной межевой вехой между нашим и чужим веком. Черты лица расплывались от долгого ветра времени, столетиями проходившего ладонями по ним, постепенно сглаживая их в простую угрюмую маску языческого идола.