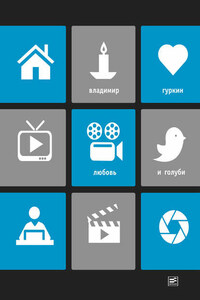Зал откатывался от них вниз дрожащей мережной тьмой. Как всегда, они сидели на самом последнем ряду. Она, несмотря на возраст, была дальнозорка, его привереда. Пульсирующий двухмерной жизнью экран, которым сплюснуто завершался овальный зал, дышал последними кадрами разыгранной актерами истории, что была рождена фантазией неведомых ликом сценаристов. И вот наконец добро победило, зло оконфуженно ретировалось, герои, взятые крупным планом, слились в торжествующем поцелуе. На экран выкатились и потекли по нему снизу наверх титры. Мережная тьма сменилась мерклым светом, добравшимся, однако, до всех закоулков зала. Захлопали сиденьями кресла, текущие по экрану титры заслонились фигурами поднявшейся со своих мест и двинувшейся на выход публики. Капельдинерша у двери загремела металлическими кольцами, раздергивая прикрывающую дверь плотную, тяжело обвисающую пышными фалдами черно-вишневую портьеру.
Его привереда тоже поднялась.
– Что ты сидишь? Пошли. Не отрывайся от народа.
«Не отрывайся от народа». Она любила говорить ему эти слова. Почему-то она находила, что он слишком мнит о себе. Впрочем, голос ее, когда произносила это, всегда был шутлив.
– Мне всякий раз неловко, что титры еще идут, а мы уже даем ноги, – сказал К. – Люди участвовали, работали, их имена… а ты и не смотришь.
– Не чудачествуй. Кто там остался… костюмеры, шоферы, подвозчики пиццы… кому это нужно. Пошли, – уже нетерпеливо потеребила она его за рукав. – И все равно не видно же ничего: ты сидишь – а люди встали.
– Нет, уже подразошлись, почти не перекрывают, – отозвался он, тем не менее подчиняясь ей и вставая. – А вот если стоять, так и нормально.
– Оставайся, если хочешь, я пошла, – негодующе вздернула она подбородок, и вот, как вспорхнув, уже летела от него вдоль ряда к проходу, – ему пришлось поспешить за ней.
– Эй, эй, – догнав, поймал он ее за руку, – куда так борзо? Дверь одна, около нее все равно толкаться. Или чтоб быть с народом?
– Как ты догадался?! – обернулась она к нему – словно бы в восторге от его сметливости.
Она была не только привередой, а еще и такой игруньей, электризуя пространство вокруг себя; острыми мелкими иголками пряного возбуждения общекотывало его это ее электричество.
– Будь лучше со мной. – Рука невольно сжала ее руку… ах, он любил эту руку, что-то ныло и тянуло в груди от покорявшихся его пясти тонких длинных пальцев, просилось то ли еще сильнее стиснуть их, то ли уткнуться в них лицом, прижаться губами… что он и сделал, наклонившись и крепко, протяжно поцеловав ее пальцы в косточки средних фаланг.
– Как же я не с тобой. Я с тобой, с тобой. – Игрунья в ней стремительным пушистым зверьком метнулась в норку, исчезнув там, и привереда тоже исчезла неизвестно куда. – Мне хорошо с тобой… И ты будь со мной.
Толпа у дверей приняла их в себя, пронесла в своем тесном, неуютно сдавливающем потоке через зев двери, словно сквозь горловину песочных часов, а там, за дверью, уже открылась воля: ступай влево, ступай вправо, мчи стрелой, обгоняя тихоходов, ползи черепахой – правда, все равно в том же потоке, стремящем себя в одном направлении – к выходу из развлекательного центра. Но разреженном потоке, разреженном! ни локтя сбоку, ни чьих-то волос перед глазами, прядями лезущими в ноздри, так что если и не свобода с независимостью, то автономия.
– Ой, эта твоя страсть к глубокомыслию на мелком месте! – отозвалась привереда не без презрительности (К. поделился с ней своим мудрствованием). – И охота тратить умственные способности понапрасну? Посмотрели фильм. Идем на улицу. Свобода с автономией тут ни при чем.
Она была самоуверенна и категорична, его привереда, ему нелегко с ней было.
– Свобода нас встретит радостно у входа, – процитировал он классика. – Весь вопрос в том, как она обойдется с нами при встрече? Роман со свободой – неуправляемая химическая реакция, результат которой непредсказуем.
– Почему ты преподаватель философии, а не какого-нибудь иностранного, – среагировала она на его новое мудрствование. – Выучил бы меня неведомому языку.
– Неведомому – кто бы меня самого выучил. – Он вздохнул с притворной сокрушенностью. – Где бы найти какую иностраночку! Ах, какая-нибудь бы иностраночка, ау!
– Вот тебе иностраночка! – выдернув свою руку из его, погрозила она ему кулачком. – Попробуй только, пожалеешь. Разговаривай на иностранном сам с собой. Разрешаю. Только чтобы никто не слышал. А то сообщат куда надо, попадешь, куда не следует.
– Да уж если сам с собой, то чтобы никто, – согласился он. – Блюстители стерильности живо найдутся, доложат. Стерилизуют тебя во мгновение ока.
Разговаривающий сам с собой – это было подозрительно, означало нарушение правил стерильности, которые должны были поддерживаться в обществе неукоснительно, свидетельствовало о психическом заболевании, психически же больной подлежал непременной и немедленной изоляции от общества; психически больным надлежало находиться в соответствующем учреждении.
Улица встретила их рассеянным лиловым светом близкого предночья, за время, что они смотрели фильм, прошел небольшой дождь, и в набухшем влагой воздухе стояла сложная смесь запахов: прибитой пыли, остывающего асфальта, волглой земли, освеженной водой зелени.
– У, какая прелесть, – останавливаясь, задирая вверх подбородок и втягивая в себя ноздрями воздух, протянула привереда. – А нас и не замочило! Какие мы везучие. Везучие мы? – требующе взглянула она на него.
– Везучие, везучие, – подтвердил он. – И все другие, кто находился под крышей. Где бы то ни было. Не обязательно в кинотеатре.
– Ой, какая приземленность, никакой романтичности, подрезаешь крылья на взлете, – с порицанием произнесла привереда, продолжая стоять с задранным подбородком. – Это философу положено таким быть?