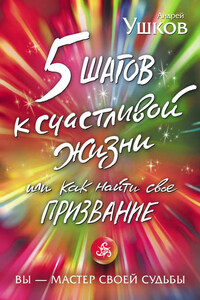Я Необулу полюбил – и в бешенстве.
Ведь это значит общим стать посмешищем,
А все ж теперь в несчастной этой глупости
Я признаюсь, припав к коленям девичьим.
Мне не к лицу влюбляться – в пору зрелости
Давно уже вступил – тому свидетель Зевс.
Но чувствую в спине стрелу Эротову:
Торчит она, как кол, между лопатками.
Нет Необулы – я зеваю – спать хочу;
Есть Необула – тоже спать, но рядом с ней.
Повсюду Необулу я преследую,
Преследуем повсюду Необулою.
Когда ступает дева легконогая
Из гинекея, и шуршит хитон на ней,
Иль вдруг заслышу этот голос девственный,
Внезапное я чую помутнение.
Мне улыбнется Необула – радуюсь,
А отвернется от меня – тоска берет;
Измаюсь за день – караулю вечером,
А вдруг смогу коснуться я ее руки?
Когда прилежно клонится над прялкою,
Глаза и кудри опустив, иль чешет лен,
Истомно-сладкой страстью обессиленный,
Слежу за нею с сердцем переполненным.
Легко мое несчастье обнаружится,
Когда пойдет к источнику стирать белье
Любовь моя, а я за нею вслед пойду,
Храня молчанье, как коза на привязи.
Увижу если – Необула слезы льет,
Сейчас же речь свою я обращаю к ней,
На Фасос вспоминаю путешествия,
Настраиваю лиру на фригийский лад.
О Необула! Сжалься надо мной скорей,
Когда любви не хочешь подарить ты мне.
Быть может, я и вправду столь уродлив, что
Девической не стою благосклонности?
Но притворись! Глаза твои прекрасные
Все говорят искусней, чем дельфийский жрец.
Любить не можешь – обмани, любимая!
Я обманусь – уже и этим буду рад!
Нет, не пой, красавица, дивных песен
Берегов печальной твоей Колхиды,
Что иную жизнь и печаль иную
Напоминают.
Ты заставила вспомнить меня, подруга,
Молодым, жестоким своим напевом
Степь и ночь, луну и прелестный облик
Девы далекой.
На тебя смотрю – и любимый призрак
Забываю, глаза красотой насытив,
Начинаешь петь – и другая дева
Передо мною.
Нет, не пой, красавица, дивных песен
Берегов печальной твоей Колхиды,
Что иную жизнь и печаль иную
Напоминают.
– Орел, взвесь полкило печени.
(Из диалога в мясном отделе)
Восклицаю: «О, Ио!» – и о
Ее уединенном горе мышлю.
Гласные колотятся в горле,
Идут пузырями,
поют и воют.
Что с ними делать, с недоносками Аполлона
И, скажем, Эвтерпы?
Если я Аргус,
обозначить ли ими жалость
К бессчастной дуре?
Если Гермес,
пожалеть ли с их помощью Аргуса,
Коего убиваю?
Если я Прометей,
то, конечно,
Всех пожалею и о себе не забуду.
Впрочем, быть вертухаем – не дело четырехглазых
(Аргус глазастее был минимум раз в 25);
В киллеры тоже никак не гожусь
(К моим белорусским ботинкам
Крылья пока что никто не приделал);
Разве страдальцем?
Но печень мою
только желтуха слегка поклевала.
Милая Муза! Не миф утешает,
но размышленье о мифе.
Перехожу на согласные:
PS. Нрзбр. Тчк.
Итак, мы оказались в круге третьем,
Меня сопровождал Гаргантюа.
Он важно объяснял, кого мы встретим,
И поправлял сползавшее боа —
Гирлянду толстых мюнхенских сосисок.
Я подмигнул: пивка сюда бы, а?
Но он сказал: «Я оглашаю список.
Здесь собрались любители еды
И выпивки, но нет стаканов, мисок,
От жирных пятен высохли следы;
Сосиски – бутафория, мы дразним
Их образом попавших в край беды,
Кто есть любил, тот предается казням.
Вот званский записной фелицевед,
Теперь он слеп на ухо и на глаз нем,
А мог когда-то закатить обед:
Багряна ль ветчина, желток во щах ли,
Пирог ли, сыр ли – здесь такого нет,
Икра прогоркла, раки поисчахли,
А что до щук, мерцающих пестро,
Они в конце концов таким запахли,
Что хоть копти, хоть подавай в бистро.
Вот некто Г.; ему в вину вменяем
Без всякой меры борзое перо.
Не дядями Митяем и Миняем
Он осквернил своих созданий дух,
Не тем, что умер, тощ и невменяем,
А тем, как Собакевич и Петух
Уписывали на его страницах:
На третий круг хватило этих двух.
Таких осатанело свинолицых
Не так уж много в книгах, да и те
В провинции все больше, не в столицах
Проводят время в праздной маете.
Но и в столицах место есть герою,
В чьем не весьма обширном животе
Сыр лимбургский встречаются порою,
Французский трюфель – роскошь юных лет,
И ананас, и главное, не скрою,
Все это покрывает жир котлет».
«Какая мерзость, – я вскричал в испуге,—
Зачем мы брали в третий круг билет?»
И тут таким запахло в этом круге,
Что если б кто кинжал иль саблю дал,
Я сразу б закололся без натуги, —
И с той поры диету соблюдал.
В лесу родилась елочка. Однажды
Я тоже очутился в том лесу.
Хотелось пить. Я умирал. От жажды
Чесался даже прыщик на носу.
Но за спиною звякнули бутыли,
И тут я вспомнил, что с собой несу.
О странное мое пристрастье, ты ли
Меня уводишь в области хвои?
Севрюгин[2] ли, в ком чувства не остыли,
Маршруты демонстрирует свои?
Себе я задал множество вопросов —
И вот они, таи их, не таи.
В краю карелов и великороссов
Что сваливает Валю[3] на траву,
Когда поэт, художник и философ
Склоняет умудренную главу,
И нет, не спит Бобрец над бобрецами,
Но бредит анекдотом наяву?
Меж «Старкою» и честными сердцами
Не рвется чудодейственный союз,
Союз борьбы за право быть борцами
С зеленым змием, сладостным на вкус.
А что овладевает вдруг Володей[4],
Когда поэт, употребивший мусс,
Рванет от мамки прямо в тьму мелодий?
И в этой тьме, наткнувшись на палат-
Ку, рвет ее, а сам смеется вроде,
Совсем не ощущая неполад-
Ку в организме. Рвутся рифмы, ткани,
И ночь вокруг горька, как шоколад.
Люблю ли я веселое мельканье
Летучей мыши, полноту Луны,
Как бы лимонной долькою в стакане
Торчащей на соломинке сосны?
От «Старки» или хвойного настила
Мы видим удивительные сны?
И тут меня струею прохватило
Лирической. И оного числа
Объединил терцинами светила
И елочку. В лесу она росла.
Розенкранц и Гильденстерн
И в гибели воробья есть особый промысел.
В. Шекспир
Два еврея разговаривают друг с другом во дворике. Рядом – детская площадка и кладбище домашних животных. Несколько детей погребают птичку.