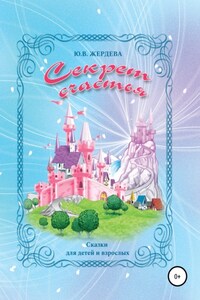Разрез получился неглубоким, крови вытекло мало.
Оскар снова взял скальпель.
Лезвие, блеснув хромом стали, погрузилось в запястье. На этот раз подкожные слои разошлись, рана раскрылась и набухла кровью. Скальпель нашел вену.
Пульсирующая боль в голове Оскара стала затихать.
Но Оскар знал, что просто выписал себе временную передышку. Рано или поздно, сучка вернется. Это было неизбежным, как счета за коммуналку.
Вероятно, следуя определенной программе, запущенной шлепком акушерки, чувство боли поселяется в человеке с первым глотком воздуха, чтобы жить с ним в горе и радости, пока смерть не разлучит. До определенного периода человек не понимает значения этого слова, поскольку, как известно, – девяносто процентов знаний мы получаем глазами, пять – ушами, и лишь остальное приходится на запахи и боль.
Боль.
Единственная родственница Оскара.
Об отце у него сохранилось всего несколько далеких и туманных воспоминаний.
Звонкая тишина морозной ночи, щербатая луна, опушенные снегом карнизы домов, он в плюшевой шубке, похожий на медвежонка, закутанный оренбургским платком, подался всем корпусом назад – это дернулись санки, и, легко, вызывая сосущее ощущение под ложечкой, помчались вперед: cтремительный воздух обжигал лицо, выжимал из глаз слезы, мелькали ноги, освещенные электричеством сугробы, инеистые стволы деревьев, скрипел снег, перчатка дергала веревку плавными, в такт бегу рывками (в детстве мы лучше видим руки взрослых, ибо эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста) и, через мгновенье, картина другая; праздничный стол – пахло мандаринами и бором, запах уюта и тепла, разноцветно освещенная елка, синеглазый мужчина на потрескивающем стуле, закинув ногу на ногу, раскачивал малютку Оскара, держа его ручки в сильных пальцах.
Сын не мог вспомнить, как выглядел отец. Об отце он знал одно: у него были черные и скользкие ботинки.
Мама, еще привлекательная во всех смыслах женщина, после того, как ее бросил муж, забухала по полной программе.
Правда жизни оказалась неумолима и стегала по глазам каждый день.
Ночами было хуже. Мама металась в кровати до рассвета как больная горячкой, слезы душили и жгли лицо, или замерзала в белых сумерках постели одна – одинешенька, словно выброшенная за ненадобностью игрушка.
Кто-то сказал: у женщины два пути. Мать или блядь.
Матерью она не стала. В биологическом смысле – да, но не в образе заботливой, любящей, готовой на все ради ребенка мамы.
И что ее добивало, сын не походил на отца. Ни одной знакомой черточки.
Когда Оскар был совсем маленький, ночами орал как резаный (может, из-за температуры, или от страха), мама орала, чтобы он заткнулся. Конечно, Оскар ревел еще громче. Она собиралась сбросить его с балкона, лишь бы прекратились вопли. Спокойно лежала и обдумывала, как все произойдет: распахивала дверь и перекидывала сына через перила – с глаз долой. Конец реву и головной боли.
Живой ум, веселость, а с ними и теплота материнского отношения со временем испарились под воздействием страшного тандема: алкоголя и одиночества. Воспитывать ребенка мать оказалась физически неспособна.
По утрам Оскар просыпался в своей спартанской кроватке от запаха табачного дыма. Тер глаза, снимал очки (дужки скреплялись резинкой от трусов) с одной из стальных шишечек грядушки в изголовье и водружал на нос.
Процесс одевания носил хаотичный характер, не всегда удавался и носил название: «и так сойдет». Вывернутые наизнанку колготки отнимали массу времени и сил (в три года перед сном их также трудно было сдернуть, как и утром надеть).
Оскар выбегал в гостиную, бормоча на ходу: «пливет, сынок, вот и настал еще один хленовый день».
– Привет, сынок, вот и настал еще один хреновый день, – усталым, затертым голосом сообщала мама и затягивалась папиросой.
Из – за выпитого накануне, мама повязывала на голову мокрое полотенце, напоминающее тюрбан. Бледное лицо, под глазами темные круги.
Хмурость, молчание, пепел.
Мама бросала на сына взгляд, словно из-за оконной рамы с двойным стеклом и начинала плакать. Это означало, что она вновь очнулась в сумраке своего не приглушенного водкой «Я».
У Оскара сводило живот, перехватывало горло, и он принимался плакать тоже. Как большинство детей, сын чувствовал ее настроение и знал все его колебания.
Мама тушила окурок в горшке с чахлыми остатками герани и обнимала Оскара.
Ее слезы служили прелюдией, указывали на то, что события еще одного «хренового» дня будут развиваться так: наскоро приведя себя в порядок, мама исчезнет из квартиры.
«Пойду, гляну насчет работы», – скажет она себе и сразу поймет, что врет. Но осмысливать, откуда взялась ложь ей недосуг. Потому что обуревало единственное желание – поскорей забыться.
И тело знало проверенный способ.
ВЫПИТЬ.
Ощутить, как накрывает хмельной дурман: его мягкие серые тени помогут ожить, услышать дыханье жизни; почувствовать, что вернулись мечты, что она может вырваться из цепких лап безысходности. Да, черт возьми, она еще молода, у нее есть время.
Мама не верила, что стала алкоголичкой. «Только не я – я могу бросить в любой момент. Я в порядке».
Но все было далеко не в порядке. Чтобы встать с кровати, умыться, приготовить завтрак, требовалась доза. Сто грамм. Двести. Пятьсот. А потом надобность в жизненной активности отпадала.
Водка – мудрая. И умеет раскрывать секреты. Ведь, главный секрет прост: «Наливай да пей».
Круг мыслей мамы был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, с чего начинался день – самобичевания, водки, хмельного забытья.
Так они и жили.
Все дни были одинаковы. Время не шло, оно стояло на месте. Где-то, в другой плоскости, продолжалась настоящая жизнь: наступала весна, приходило лето – смутные потоки, едва касавшиеся мальчика.
На заре 90-х, когда его поколение раскупорило тридцатник, Оскар посмотрел фильм «День сурка». Герой Билла Мюррея попал в странную ситуацию – проживал один и тот же день снова и снова. Неделю. Две. Три…
Оскар пришел к выводу, что первую пятилетку своей жизни, впрочем, как вторую и третью, можно было смело назвать «годами сурка».
Конечно, он встречался с реальным миром. На улице. Мама находилась в затяжном коматозном отпуске, а сын считался чемпионом района по гулянию. В любое время, даже ночью.
Детвора относилась к нему не то чтобы с презрением, но держала дистанцию и не принимала в большинство игр, тем самым, мстя Оскару за необычное имя к которому не рифмовались дразнилки и неограниченную свободу. Ведь у них она лимитировалась.
В самый разгар «войнушки» хлопала дверь балкона и на весь двор неслось: